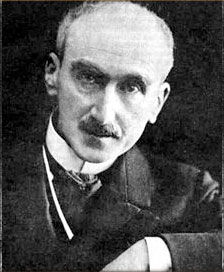познания как род абсолютного и отказываться от того, чтобы давать ее генезис, но сама материя этого познания казалось слишком размельченной интеллектом, чтобы можно было надеяться постигнуть ее в ее первоначальной чистоте. Она не была «вещью самой по себе», она была только отражением, полученным через нашу атмосферу.
Если теперь спросить себя, почему Кант не думал, что материя нашего познания переходит за рамки его формы, то вот что окажется. Критика Кантом нашего познания природы заключается в том, чтобы отделить то, что должно быть нашим духом, от того, что должно быть природой, если притязания нашей науки оправдываются; но сами-то эти притязания не подверглись критике со стороны Канта. Я хочу этим сказать, что он принял без возражения идею единой науки, способной охватывать с одинаковой силой все части данного и координировать их в одну систему, представляющую во всех частях одинаковую прочность. Он не предполагал в своей «Критике чистого разума» , что наука становилась все менее и менее объективной и все более и более символической по мере того, как она двигалась от физического к жизненному, а от жизненного к психическому. Опыт не идет, по его мнению, в двух различных и, может быть, противоположных направлениях, — в одном, согласующемся с направлением интеллекта, в другом, ему обратном. Для него существует только один опыт, и интеллект распространяется на всю его протяженность. Это и выражает Кант, говоря, что все наши интуиции чувственны, или, другими словами, инфраинтеллектуальны. Наделе именно это и следовало бы допустить, если бы наша наука представляла во всех своих частях равную объективность. Но предположим, напротив, что наука делается все менее и менее объективной, все более и более символической по мере того, как она идет от физического к психическому, проходя через жизненное. В таком случае — так как нужно каким бы то ни было образом воспринять известную вещь для того, чтобы дойти до ее символического изображения, — должна существовать интуиция психического и вообще жизненного, которую интеллект, без сомнения, переложит и переведет, но которая, тем не менее, будет переходить за рамки интеллекта. Другими словами, должна существовать интуиция суперинтеллектуальная. Если такая интуиция имеет место, то возможно не только познание внешнее, познание явлений, но возможно также для духа овладение самим собой. Более того, если у нас имеется интуиция такого рода, я хочу сказать, интуиция суперинтеллектуальная, то чувственная интуиция, без сомнения, связывается с ней благодаря неким опосредованиям, как инфракрасный цвет связывается с ультрафиолетовым. Чувственная интуиция вскрывается, таким образом, сама собой. Она уже не будет доходить только до призрака неуловимой вещи самой по себе. Она введет нас и в абсолютное (лишь бы были внесены сюда необходимые поправки). Пока в ней видели единственный материал нашей науки, на всю науку распространялось кое-что относительное, которое поражает научное познание духа, и тогда восприятие тела, являющееся началом науки о телах, само являлось как бы относительным. Чувственная интуиция должна была поэтому казаться относительной. Совсем иное дело, если проводить различие между науками и на научное познание духа (а следовательно, и на познание жизненного) смотреть как на более или менее искусственное расширение известного способа познания, которое, прилагаясь к телам, вовсе не является познанием символическим. Пойдем далее: если существуют, таким образом, две интуиции различного порядка (причем вторая получается путем инверсии направления первой) и если интеллект естественным образом направляется в сторону второй, то нет существенного различия между интеллектом и самой этой интуицией. Между материей чувственного познания и ее формой барьер понижается точно так лее, как между «чистыми формами» чувственности и категориями разума. Становится видным, как материя и форма интеллектуального познания (суженного до своего собственного предмета) порождают друг друга путем взаимного приспособления, так как интеллект формируется, ориентируясь на телесность, а телесность — на интеллект.
Но Кант не желал и не мог допустить такой двойственной интуиции. Чтобы допустить ее, нужно было бы видеть в длительности самую ткань реальности и, следовательно, проводить различие между субстанциальной длительностью вещей и временем, рассеянным в пространстве. Нужно было бы видеть в самом пространстве и в присущей ему геометрии идеальный предел, в направлении которого материальные вещи развертываются, но где он не бывает развернутым. Ничего нет более противного букве, а может быть, и духу «Критики чистого разума». Правда, познание представлено нам здесь как лист всегда открытый, а опыт — как бесконечно продолжающееся давление фактов. Но, согласно Канту, эти факты по мере своего возникновения рассыпаются по плоскости: они внешние относительно друг друга и внешние по отношению к духу. Нет речи о внутреннем познании, которое могло бы схватить их изнутри, в самом их возникновении, вместо того, чтобы брать их после их появления, о познании, которое подрывалось бы, таким образом, под пространство и под опространствленное время. А между тем наше сознание помещает нас именно под эту плоскость: там и находится истинная длительность.
С этой стороны Кант также достаточно близок к своим предшественникам. Он не допускает середины между вневременным и временным, распыленным на отдельные моменты. И так как не существует интуиции, которая может перенести нас во вневременное, то, по самому определению, всякая интуиция должна быть чувственной. Но разве между физическим существованием, распыленным в пространстве, и существованием вневременным, которое может быть только существованием концептуальным и логическим, как об этом говорил метафизический догматизм, нет места для сознания и для жизни? Да, бесспорно. Это можно видеть, если переместиться в длительность, чтобы идти от нее к моментам, вместо того, чтобы исходить из моментов, соединяя их в длительность.
И однако непосредственные преемники Канта, чтобы избежать кантианского релятивизма, направились в сторону вневременной интуиции. Правда, идеи становления, прогресса, эволюции, по-видимому, занимают значительное место в их философии. Но на самом деле, играет ли там длительность какую-нибудь роль? В реальной длительности каждая форма происходит из предшествующих форм, всегда прибавляя к ним что-нибудь, и объясняется этими формами в той мере, в какой она может иметь объяснение. Но выводить эту форму прямо из Бытия как целого, проявлением которого она по предположению является, это значит возвратиться к спинозизму. Это значит отрицать за длительностью всякую действенность, как это делали Лейбниц и Спиноза. Посткантовская философия, как бы строго она ни относилась к механистическим теориям, принимает от механицизма идею единой науки, одной и той же для всякого рода реальности. И она ближе к этой доктрине, чем сама полагает; ибо если при рассмотрении материи, жизни и мысли она заменяет последовательные ступени сложности, предполагаемые механицизмом, степенями в реализации Идеи или ступенями в объективации Воли, то она все же говорит о ступенях, и это будут ступени лестницы, пробегаемой бытием в едином направлении. Словом, она различает в природе те же сочленения, что и механицизм: она перенимает у механицизма весь рисунок; она только кладет сюда другие краски. Но именно сам рисунок или, по крайней мере, половина рисунка и должна быть переделана.
Правда, для этого нужно было бы отказаться от того метода построения, которого держались преемники Канта. Нужно было бы призвать опыт, опыт очищенный, я хочу сказать, высвободившийся» где это нужно, из тех рамок, которые строил наш интеллект по мере развития нашего воздействия на. вещи. Опыт подобного рода не будет опытом вневременным. Он только ищет по ту сторону пространственного времени, в котором являются нам постоянные перегруппировки частей, конкретную длительность, где постоянно совершается радикальная переплавка целого. Он следует за реальным во всех его изгибах. Он не ведет нас, подобно строительному методу, ко все более и более высоким обобщениям, к возвышающимся один над другим этажам великолепного здания. Но зато он не оставляет промежутка между объяснениями, которые он нам подсказывает, и между предметами, которым надлежит дать объяснение. Он стремится осветить не только целое, но и детали реального.
Что в XIX веке мышление требовало такого рода философии, философии, освободившейся от произвольного, способной спуститься к деталям отдельных фактов, в этом не может быть сомнения. Несомненно, оно почувствовало также, что эта философия должна проникнуть в то, что мы называем конкретной длительностью. Появление на ук о духе, прогресс в психологии, растущее в биологиче ских науках значение эмбриологии, — все это должно было подсказывать идею реальности, длящейся внутрен не, реальности, которая является самой длительностью. Вот почему, когда появился мыслитель, который возве стил учение об эволюции, где движение материи к боль шей восприимчивости описывалось одновременно с дви жением духа к рационализации, где постепенно просле живалось усложнение соответствий между внешним и внутренним, где, наконец, изменчивость становилась самой сущностью вещей, — к нему обратились все взоры. Отсюда исходит то могучее притягательное воздействие.
Но он не пошел по этому пути, а, скорее, круто свернул с него. Он пообещал дать космогоническую систему, а создал совсем иное. Его доктрина определенно называется эволюционизмом: она имела притязание подняться и спуститься по пути всемирного становления. На деле же там не было вопроса ни о становлении, ни об эволюции.
Мы не намереваемся входить в углубленный анализ этой философии. Скажем просто, что обычный прием метода Спенсера состоит в том, чтобы воссоздавать эволюцию из фрагментов того, что уже эволюционировало. Если я наклею на картон картинку и разрежу потом картон на кусочки, я смогу, складывая, как нужно, эти кусочки картона, воспроизвести картину. И ребенок, трудящийся над частями этой игрушки, складывающий бесформенные части картинки и получающий в конце концов раскрашенный рисунок, конечно же, воображает, что это он произвел и рисунок, и краски. И однако акт рисования и раскрашивания не имеет никакого отношения к акту соединения частей картинки, уже нарисованной и раскрашенной. Точно так же, соединяя между собой самые простые результаты эволюции, вы, насколько возможно, подражаете воспроизведению самых сложных ее следствий; но ни из тех, ни из других вы не получите космогонии, и это прибавление одной стадии эволюции к другой ничуть не будет походить на само эволюционное движение.
А между тем таково заблуждение Спенсера. Он берет реальность в ее наличной форме; он разбивает ее, он ее распыляет на частички, которые и пускает по ветру; затем он «интегрирует» эти частицы и «останавливает их движение». Подражая целому в работе с мозаикой, он воображает, что рисует и создает его генезис.
Идет ли речь о материи? Рассыпанные элементы, которые он интегрирует в видимые и осязаемые тела, вполне имеют вид частиц простых тел, которые он предполагает сначала рассеянными в пространстве. Во всяком случае это «материальные точки» и, следовательно, точки неизменяемые, настоящие маленькие твердые тела: как будто