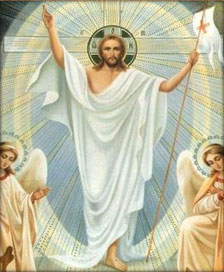(Stuhlmacher, II, 206). В том же духе высказываются и Ойген Рукштуль и Петер Дшулниг: «Составитель текста Иоаннова Евангелия был чем-то вроде „правопреемника“, распоряжающегося наследием любимого ученика Иисуса» (Ibid., 207).
Приведенные выше сведения существенно продвинули нас в решении вопроса об исторической достоверности четвертого Евангелия. Мы увидели, что оно, так или иначе, основывается на свидетельствах очевидца, а его окончательная редакция вышла непосредственно из круга учеников живого свидетеля событий, который облек одного из них особым доверием.
Размышляя далее в этом направлении, Штульмахер выдвигает предположение, «что в Иоанновой школе получил свое дальнейшее развитие тот умственный настрой и стиль учительствования, который определял характер бесед в узком кругу учеников Иисуса, когда Он разговаривал с Петром, Иаковом и Иоанном или когда обращался ко всем двенадцати апостолам вместе. <…> Если апостолы и ученики, как показывает нам синоптическая традиция, учили об Иисусе, исполняя свое служение внутри церковных общин, то в кругу последователей Иоанна это учительское служение дополнялось внутренними обсуждениями, одной из тем которых была тайна Откровения, тайна явления Бога в Сыне» (Ibid., II, 207). На это, правда, следовало бы возразить, что в самом тексте Евангелия беседам Иисуса с ближайшими учениками отводится значительно меньше места, чем Его речам, адресованным верхушке храмового священства, в диалогах с которым уже угадываются очертания будущего судилища над Ним, а центральным вопросом становится вопрос «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» (Мк 14:61): повторяемый в разных формах, он неизбежно выдвигается на первый план, составляя зерно конфликта, который становится тем более драматичным, чем тверже Иисус настаивает на Своем Богосыновстве.
Хенгель, у которого мы почерпнули так много важных сведений о иерусалимском храмовом священстве как той исторической среде, с которой неразрывно связано четвертое Евангелие, и тем самым получили возможность представить себе Иисуса в контексте реальной жизни, — именно Хенгель в своих окончательных выводах относительно исторического характера текста четвертого Евангелия высказывается, как это ни странно, крайне осторожно, если не сказать весьма критично: «Четвертое Евангелие, — пишет он, — представляет собою во многом, хотя и не во всем, совершенно свободный „художественный текст“, поэтический рассказ об Иисусе. <…> Доверять ему целиком и полностью было бы столь же наивно, как и не доверять ему совсем: и то, и другое было бы одинаковым заблуждением. С одной стороны, не все то, что не имеет исторических доказательств, является чистым вымыслом, с другой стороны, для евангелиста (и его учеников) решающее значение имеет не банальное „историческое“ воспоминание о происшедших событиях, а Параклит, Святой Дух, указующий путь к истине» (Hengel 1993, 322). Читая это, невольно задаешься вопросом: что означает данное противопоставление? Почему историческое воспоминание — это воспоминание банальное? Имеет ли значение, насколько истинны события, сохранившиеся в памяти? И к какой истине ведет Параклит, если при этом все «историческое» игнорируется как нечто «банальное»?
Еще более очевидно неоднозначность подобного рода противопоставлений проявляется в суждении Инго Броера: «Евангелие от Иоанна предстает перед нами не как историческое сообщение, а как литературное произведение, которое свидетельствует о вере и хочет эту веру укрепить» (Broer, 197). О какой же вере оно «свидетельствует», если оно, так сказать, отодвигает в сторону историю? Каким образом оно укрепляет веру, если оно, с одной стороны, является историческим свидетельством, но, с другой стороны, не содержит в себе признаков исторически достоверного сообщения? Мне думается, что в данном случае мы имеем дело с неверным использованием понятия «исторический», равно как и с неверным использованием понятий «вера» и «Параклит»: вера, игнорирующая подобным образом историю, превращается действительно в чистый гнозис. Она исключает из своего круга плоть, претворение духа в плоть — то есть подлинную историю.
Если «историческим», то есть «исторически достоверным», считается только то, что записано с такой же точностью, с какою записывается человеческая речь на магнитофон, то тогда речи Иисуса, переданные Евангелием от Иоанна, следует признать «исторически недостоверными». Но если этот текст не претендует на такого рода буквальную точность, то это ни в коем случае не означает, будто он является поэтическим вымыслом, литературным произведением об Иисусе, замысел которого якобы постепенно сложился в кругу учеников Иоанна, а затем был воплощен по Божественному вдохновению силою Духа Святого. В действительности же четвертое Евангелие претендует только на одно: его задача точно передать содержание речей Иисуса, Его слов о Себе, сказанных Им во время Его великих выступлений в Иерусалиме, с тем чтобы читатель мог узнать главное содержание Его вести и через это прикоснуться к подлинной личности Иисуса.
Чтобы точнее определить особый род историзма, которым отмечено четвертое Евангелие, и получить возможность еще немного продвинуться в решении этой проблемы, обратим внимание на то, какие факторы Хенгель выделяет в качестве элементов, формирующих композицию текста. К таким элементам, по Хенгелю, относятся «формообразующая творческая воля автора, его личное воспоминание», «церковная традиция и, соответственно, историческая реальность», говоря о которой Хенгель выносит поразительное суждение, сводящееся к тому, что евангелист будто бы «ее изменяет» и даже, как пишет Хенгель, «осуществляет над ней насилие»; и последний элемент этого ряда — о нем мы только что говорили — «ведущий к истине Параклит, Святой Дух, за которым и остается последнее слово», вытесняющее собою, если верить Хенгелю, «воспоминание о прошлом» (Hengel 1993, 322).
То, как Хенгель выстраивает эти пять факторов, в известном смысле противопоставляя их друг другу, лишает всю систему логики. Ибо как может оставаться последнее слово за Святым Духом, если евангелист уже успел исказить действительность, «осуществив над ней насилие»? Как соотносится формообразующая воля евангелиста, его личное воспоминание с церковной традицией? Если евангелист «насилует» действительность, то означает ли это, что его «формообразующая, творческая воля» одерживает верх над его личными воспоминаниями? Каковы легитимные основания, на которых действует эта «творческая воля»? И как она соотносится тогда со Святым Духом?
Мне думается, что выделенные Хенгелем пять элементов действительно представляют собой сущностные начала, которые имели определяющее значение для четвертого Евангелия, но их внутреннее соотношение и, соответственно, смысловое наполнение каждого из них в отдельности должны рассматриваться под совершенно иным углом зрения.
Во-первых, необходимо объединить в одну группу второй и четвертый элементы: «личное воспоминание» и «историческую действительность». Оба эти элемента составляют вместе то, что Отцы Церкви называли «factum historicum» — историческим фактом, определяющим «словесный смысл» текста: это внешняя канва событий, которая знакома евангелисту частично по собственным воспоминаниям, частично из церковной традиции (не говоря уже о том, что он, вне всякого сомнения, знал и синоптические Евангелия в той или иной версии). Он намерен рассказать о происшедшем как «свидетель». Никто другой не подчеркивает этот аспект — самую «плоть» истории, ее реальность — так, как это делает Иоанн: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, — ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (1 Ин 1:1–2).
Оба эти фактора — историческая действительность и воспоминание — самым непосредственным образом связаны с третьим и пятым элементами, названными Хенгелем: с церковной традицией и водительством Святого Духа. Ведь собственные воспоминания составителя четвертого Евангелия, с одной стороны, имеют подчеркнуто личный характер, как это видно по словам, какими он завершает рассказ о Распятии (Ин 19:35), с другой стороны, эти воспоминания никогда не представляются как нечто сугубо частное, но всегда соотнесены с «мы» Церкви, с общим воспоминанием, с тем, «что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши…» (1 Ин 1:1). Субъектом воспоминания у Иоанна неизменно выступает «мы» — носитель воспоминания предается воспоминаниям в кругу учеников и вместе с ними, в лоне Церкви и вместе с нею. И если, говоря о себе как о свидетеле и очевидце событий, составитель Евангелия подчеркивает свое «я», свой личный опыт, то план воспоминаний строится как коллективное «мы» общины учеников, как коллективное «мы» Церкви. Вот почему такое воспоминание, став достоянием церковной памяти и пройдя процесс очищения, углубления, уже перестает быть просто банальным набором фактов, удержанных памятью.
Иоанн трижды употребляет в своем Евангелии слово «вспоминать» и дает нам тем самым ключ к пониманию того, какое значение он вкладывал в понятие «память». Так, в рассказе об изгнании торгующих из храма говорится: «При сем ученики Его вспомнили, что написано: „ревность по доме Твоем снедает Меня“ [Пс 68:10]» (Ин 2:17). Происшедшее событие вызывает в памяти воспоминание о том, что говорится в Писании, и благодаря этому дополняется новым, более широким смыслом. Память извлекает на свет смысл факта, который только благодаря этому и обретает значимость. Он предстает тогда как факт, в котором сокрыто Слово Божие, Логос, — как факт, который вышел из Логоса и к нему же нас возвращает. В этом проявляется связь между Словом Божиим и делами Иисуса и тем самым раскрывается смысл тайны Самого Иисуса.
Далее в истории об изгнании торгующих из Храма рассказывается о том, что иудеи потребовали от Иисуса явить знамение и таким образом доказать свою власть — «власть так поступать» (Ин 2:18). На это Иисус ответил: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин 2:19). И сразу же после ответа Иисуса следует замечание евангелиста: «Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус» (Ин 2:22). Воскресение оживило воспоминание, и это воспоминание в свете Воскресения проявило смысл слов, которые были не поняты прежде, и соотнесло их со всем Писанием в целом. Неразрывное единство Слова и факта — именно этот ключевой момент скрепляет все четвертое Евангелие, именно эту мысль и призвано донести до нас четвертое Евангелие.
Третий раз слово «вспоминать» встречается в Евангелии от Иоанна в рассказе о Входе Господнем в Иерусалим. Евангелист сообщает нам, что Иисус нашел молодого осла и сел на него, «как написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле» (Ин 12:14–15; ср. Зах 9:9). Далее евангелист пишет: «Ученики Его сперва не поняли этого; но, когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему» (Ин 12:16). Снова некое событие сначала представлено нам как голый факт. И снова евангелист показывает нам, как после Воскресения ученикам приходит озарение, которое помогает им понять значение этого факта. Они «вспомнили», и тогда слова Писания, которые прежде ничего не значили для них, стали понятны им, исполнившись того смысла, который вложил в них Бог,