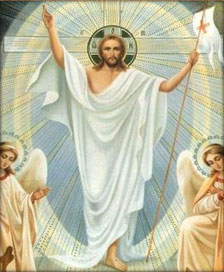что они пусты, как и все остальные. Я ощущаю эту пустоту сквозь запертые двери.
Хочется остановиться и постоять здесь хоть час, просто чтобы почувствовать разницу. Старая гостиница похожа на только что выздоровевшего больного. Вот оно, Гефсиманское аббатство, каким оно было, когда я сюда пришел, и о котором почти уже позабыл. В эту вот тишину, в эту темноту и пустоту я вступил вместе с братом Мэтью одиннадцать лет назад, весной. От всего удаленный, дом построен так, чтобы тут отрешиться от всех городов и погрузиться в годы вечности. Но ничего обнадеживающего нет в этой его вновь обретенной невинности. Тишина звучит упреком. Сама пустота — мой самый больной вопрос.
Если я сам нарушил молчание и принялся так трезвонить об этой пустоте, что она наполнилась людьми, то кто я такой, чтобы теперь прославлять тишину?[11] Кто я такой, чтобы рекламировать пустоту? Кто я, чтобы делать замечания о слишком большом числе посетителей, паломников, послушников, туристов? Или человек нашего времени уподобился Мидасу — стоит только преуспеть в чем-то, как сразу все, к чему ни прикоснись, наполняется людскими толпами?
Уж коли в наш век толпы я выбрал себе путь отшельника, не самый ли большой грех — жаловаться на присутствие других людей у порога моего уединения? Разве я так слеп, чтобы не видеть, что уединение и есть их главная потребность? Но и они — если тысячами устремятся в пустыню, как смогут они пребывать там в одиночестве? Что хотят они там увидеть? А я сам, кого я пришел искать здесь, как не Тебя, Христос, — Тебя, имеющего сострадание к людским множествам?
И все-таки Твое сострадание выбирает того, на кого должна снизойти Твоя милость, и отличает его, и ставит отдельно от любого множества, даже если Ты и бросаешь его в самую гущу толпы…
Упершись ногами в пол, который я натирал, когда был постулантом, я задаю эти бесполезные вопросы. Вешаю на место ключ от двери, ведущей к трибунам хора, где я впервые услышал, как монахи распевают псалмы, — и не жду ответа, потому что уже начинаю догадываться, что Ты никогда не отвечаешь, когда я этого жду.
Третий зал библиотеки называется у нас адом. Маленькие дощатые перегородки делят его на четыре закутка, куда свалены признанные негодными книги. На перегородках висят американские флаги и портреты дома Эдмонда Обрехта[12]. Сквозь этот немыслимый лабиринт я пробираюсь во второй читальный зал, где раньше сидели ретританты[13] , морщили брови и слушали проповеди. Проплывая мимо книжных полок, тикая табельными часами, помаргивая фонарными огоньками и позвякивая ключами от первого зала, я стараюсь не смотреть в угол с книгами о картузианцах, которые некогда завлекали меня своими песнями сирен[14]. В первом читальном зале стоят столы схоластиков — здесь находится верхний скрипториум. Всюду по стенам — теологические книги. Вон висят сломанные часы с кукушкой, которые отец Виллиброд каждое утро, прежде чем рывком распахнуть окна, настраивает с выражением некоего принципиального несогласия на лице.
Наверное, самая длинная комната в Кентукки — дормиторий хоровых монахов[15]. Долгие ряды отсеков, разделенных перегородками высотой чуть выше шести футов; мы развешиваем на них рубашки, рясы и наплечники, чтобы хоть как-то подсушить их на ночном воздухе. Вдоль стен между окнами втиснуты дополнительные выгородки, в каждой — по монаху на соломенном матрасе. В центре зала — бледная лампочка, углы его окутаны тенями. Мягко прохожу от отсека к отсеку. Я знаю, в каких из них храпят. Но сейчас, кажется, в этой странной обители никто не спит. Тихо, как только возможно, иду к дальней западной стене, где в углу под звонком стоит койка отца Калеба. Нахожу пост за органной дверью, пробиваю табельные часы и, мягко ступая, возвращаюсь вдоль противоположной стены дормитория.
Между двумя выгородками прячется дверь, ведущая во флигель лазарета. Там уже храпят вовсю. За лазаретом — крутая лестница на третий этаж.
Прежде чем подняться по ней, еще одно задание. Маленькая квадратная часовня при лазарете, которая давала мне пристанище перед началом всех важных этапов моей монастырской жизни: принятием послушничества, пострижением, рукоположением. Всякий раз, когда я здесь, некое чувство — его не выразить словами — вздымается из самых глубин моего существа. Это та тишина, которая поднимет меня на башню.
Между тем пробиваю часы на следующем посту — около зубоврачебного кабинета, где на следующей неделе мне вырвут еще один коренной зуб.
Теперь дела закончены. Теперь я могу взойти на вершину города веры, оставив внизу его нынешнюю историю. Эта лестница началась еще до Гражданской войны. Не задерживаясь в освещенном синей лампочкой дормитории братьев-монахов, я спешу мимо гардероба в коридор. Выглядываю в низкие окна : ага, я уже выше деревьев. В конце коридора вход на чердак и оттуда — на башню.
Висячий замок всегда производит ужасный шум. Наконец, дверь, закрепленная на петлях, которые при любом прикосновении разражаются бранью, отворяется, и ночной ветер, горячий и порывистый, врывается с чердака, принося с собой запах стропил и старых, пыльных, лежалых вещей. Осторожнее на третьей ступеньке: не провалиться бы сквозь доски. Отсюда и выше здание постепенно развоплощается, утрачивает материальную основательность, но, однако, надо все время быть начеку, иначе расшибешь голову о балки, на которых еще видны следы топоров, оставленные еще сто лет назад нашими французскими отцами…[16]
Сейчас звенящая под ногами пустота равна что-нибудь шестидесяти футам до пола церкви. Я стою прямо над средокрестием[17] . Если хорошенько пошарить, можно найти дырку, проделанную фотографами, заглянуть в пропасть и высветить внизу мое место в хорах.
По шаткой, извилистой лестнице взбираюсь на колокольню. Высоко над головой, среди мрачных инженерных конструкций, поддерживающих шпиль, потревоженная темнота в смятении хлопает крыльями. На расстоянии вытянутой руки постукивают старые башенные часы. Я направляю свет фонарика на эту загадку — что до сих пор заставляет их работать? — и пристально вглядываюсь в старинные колокола.
Так, шкаф с предохранителями я осмотрел. Заглянул в углы, где должна быть электропроводка. Удостоверился, что нигде нет огня — загорись он тут, башня мгновенно вспыхнет факелом и через двадцать минут пожар неминуемо охватит все аббатство…
Всем своим существом вдыхая продувающий колокольню ветер, я подхожу к приоткрытой двери, сквозь которую виднеются небеса, и легонько толкаю ее. Дверь настежь распахивается в бескрайнее море тьмы и молитвы. Таким ли будет он, час моей смерти? Отворишь ли Ты дверь в великий лес, поведешь ли меня в лунном свете по лестнице, поднимешь ли к звездам?
Взойдя выше вершин деревьев, я шагаю по светящемуся воздуху, а подо мною длинно блестит металлическая крыша, обращенная к лесу и холмам.
Из полей вокруг спящего аббатства поднимается дымка влажного жара. Вся долина залита лунным светом; на юге можно сосчитать холмы за водокачкой, на севере — перечислить деревья в роще. Внизу гигантский хор живых существ возносит свои рулады: жизнь поет в ручьях, трепещет в речках, полях, деревьях — миллионы и миллионы прыгающих, летающих и ползающих тварей. А наверху, высоко надо мной прохладное небо раскрывается навстречу студеным звездным просторам.
Я кладу табельные часы на выступ колокольни, сажусь по-турецки и, прислонившись к стене, начинаю молиться, лицом к лицу все с тем же вопросом, на который нет ответа.
Господи Боже этой великой ночи, видишь ли Ты этот лес? Слышишь ли шепот его одиночества? Проникаешь ли его тайну? Помнишь ли его укромные тропы? Видишь ли Ты, что моя душа оплывает, подобно воску?
Clamabo per diem et non exaudies et nocte et non ad insipientiam mihi![18]
А место около речного притока Ты помнишь? А тот момент осенью на вершине Виноградничного холма, когда поезд шел по долине? А лощину МакГинти и поросший редким лесом склон, что за домом Ханекампа? А лесной пожар? Знаешь ли, что стало с молодыми тополями, которые мы высадили весной? Ведешь ли наблюдение за долиной, где я помечаю деревья, предназначенные для срубки?
Нет на свете зеленого листа, о которым бы Ты не заботился. Нет крика, не услышанного Тобой еще до того, как он исторгнется из горла. Нет подземных вод, не укрытых Тобой в глинистых слоях почвы. И всякий потаенный родник тоже спрятан Тобою. Нет такой лощины с одиноким домом, которая не была бы задумана Тобой для этого уединения. Нет человека на этом акре леса, не рожденного тобой для этого акра леса.
В тишине все-таки больше успокоения, чем в ответе на вопрос. В настоящем присутствует вечность, вот она у меня в руке. Вечность — как огненное семя: его стремительно выпирающие корни сокрушают оковы, не дающие разверзнуться моему сердцу.
Вещи времени в сговоре с вечностью. Тени состоят у Тебя на службе. Животные поют Тебе, пока не умрут. Тугие холмы опадают, как изношенные одежды. Все меняется, умирает, исчезает. Вопросы возникают, кажутся насущными, и тоже исчезают без следа. В этот час я перестану их задавать, и тишина будет мне ответом. И тогда мир, сотворенный Твоей любовью и исказившийся от летнего зноя, тот мир, которому мой разум способен давать только ложные истолкования, — он не будет больше служить помехой нашим голосам.
Мысли, путешествующие вовне, приносят из окружающего мира сообщения о Тебе; но диалог с Тобой, если вести его через посредство мира, всегда оказывается разговором с моим собственным отражением в реке времени. Да и возможен ли диалог с Тобой? Разве только если Ты Сам выберешь гору, и покроешь ее густым облаком, и огнем высечешь слова в сознании Моисея.
Этот раскаленный плод грома и молнии, некогда явленный ему на каменных скрижалях, мы теперь носим в себе естественно и тихо, легче дыхания.
Ладонь раскрыта. Сердце немо. Душа, эта твердая жемчужина в пустом дупле моего мнимого могущества, удерживающая вместе мое физическое существо, однажды уступит и сдастся.
Я вижу звезды, но больше не притворяюсь, что знаю их. Я много раз ходил по этому лесу, но смею ли я сказать, что люблю его? Одно за другим я забуду имена отдельных вещей.
Тебя, Кто спит в моей груди, не встретить в словах, но только в прорастании жизни изнутри жизни и мудрости изнутри мудрости. Найти Тебя можно в причастии: Ты во мне и я в Тебе, Ты в них и они во мне — отрешение в отрешении, бесстрастие в бесстрастии, пустота внутри пустоты, свобода внутри свободы. Я один. Ты один. Отец и я — одно.
“Что было ничтожным, стало драгоценным. Что сейчас драгоценно, никогда не было ничтожным. Я всегда знал, что ничтожное драгоценно, ибо для Меня нет ничего ничтожного.
Что было жестоким, стало милосердным. Что сейчас милосердно, жестоким не бывало. Я всегда покрывал