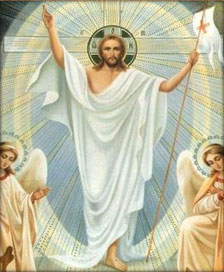открывает одну за другой двери расположенных анфиладой гостиных, по которым проходит, опираясь на посох слоновой кости, епископ со своим гостем. Все эти покои, все это потускневшее великолепие дышит холодом и запустением. Уже двенадцать лет живет Бертран Север Лоранс в этих комнатах, не оставив ни малейшего следа своего существования. Какими принял их от своего предшественника епископа Дубля, такими они и остались. Дубль, человек прежней эпохи, знал толк в красивых вещах и даже в какой-то мере был коллекционером. Лоранс не имеет никакой склонности к красивым вещам и к собирательству. Наоборот, он выставил на продажу несколько картин и других произведений искусства из своих апартаментов, чтобы выручку пустить на благотворительные цели. Люди, вышедшие из низов, как правило, рационалисты.
Наконец они у цели. Второй знак благоволения, оказываемого Перамалю: епископ велит подать черный кофе в собственную комнату. Это помещение, где монсеньер живет, работает, спит. До того, как стать епископом, он всегда называл своей только очень скромную комнатку и, став епископом, не изменил этой привычке. И пусть церемониймейстер возражает, сколько его душе угодно. Его преосвященство категорически отказался занять более просторные апартаменты. Никто бы не стал утверждать, что эта комната уютная или хотя бы обжитая. В помещении среднего размера стоят железная кровать, низенькая скамеечка для молитвы, какая-то нелепая кушетка, письменный стол, несколько кресел и мягких стульев; здесь находятся также распятие и плохое изображение Мадонны. Монашеским или аскетичным это жилье тоже назвать нельзя, поскольку монсеньер не отказывается от удобств, к которым успел привыкнуть. Он только отказывается — причем без всякого наигрыша — изменить стиль своей жизни соответственно епископскому званию. Он, сын простого рабочего, был беден и остался беден. Скудость житейского уклада тоже может стать своего рода привычкой. Но, чтобы ни на йоту не погрешить против истины, надо сказать, что кормят у епископа неплохо, даже отменно, и Перамаль вынужден это констатировать при каждом своем визите.
Третий знак благоволения: камердинер протягивает Перамалю длинную трубку. Сам монсеньер предпочитает добрый старый нюхательный табак, о чем на его сутане осталось множество свидетельств. Хозяин дома и гость усаживаются поближе к камину. Какая холодная нынче весна! Единственное, что придает комнате уют, — это огонь в камине. Монсеньер зябнет даже летом. Может, его знобит от собственного добросердечия.
— События у Грота, — начинает епископ, — о которых вы рассказали нам за столом, лишь укрепили меня в убеждении, что наш образ действий был правильным. Однако ни префект, ни мэр и помыслить не могли, что заграждение перед Гротом будут рушить ежедневно. Подумайте только, какой вред принесло бы церкви сообщение, что хотя бы часть этих разрушений инспирирована нами. Должен выразить вам свою признательность, господин декан…
— Ваше преосвященство, — почтительно возражает старику Перамаль, — я взял на себя смелость испросить у вас нынешнюю аудиенцию только потому, что я совсем не доволен собой, что я не могу считать происходящее благом, и потому что боюсь, как бы изменение нашей позиции не оказалось крайне необходимым…
Епископ высыпает щепотку табака обратно, так и не донеся ее до ноздрей. Его глубоко посаженные глаза изумленно впиваются в лицо декана. Слегка откашлявшись, он, однако, уклоняется от прямого наскока Перамаля:
— Поначалу я хотел бы задать вам один вопрос: кто такая Бернадетта Субиру?
— Да, кто такая Бернадетта Субиру? — повторяет как бы про себя декан, уставясь в пол. Проходит не меньше минуты, прежде чем он вновь обращает лицо к епископу. — Монсеньер, честно признаюсь, что я принимал Бернадетту за обманщицу, за авантюристку типа Розы Тамизье, и сегодня случаются минуты, когда я все еще придерживаюсь того же мнения Слишком хорошо знаю я этот народ сказочников, фантазеров и комедиантов и их умение не только другим, но и себе вбивать в голову что угодно. Ах этот народ так отчаянно беден! Признаюсь еще и в том, монсеньер, что позже я стал принимать Бернадетту за безумную, мне и по сей день иногда так кажется, хотя все реже и реже. А в-третьих, признаюсь вам, монсеньер, что в Бернадетте Субиру я вижу истинную избранницу Неба и чудотворицу…
— Вашу информацию никак не назовешь четкой и ясной, уважаемый кюре, — ворчит епископ, чей ум, привычный к точности юридических формулировок, не очень жалует сангвинические парадоксы. И вялым жестом указывает на письменный стол:
— Я получил письмо от отставного генерала по имени Возу. Он просит меня предпринять какие-то шаги против этого подрыва авторитета церкви. Примерно ту же песню вот уже несколько недель поет правительство. Барон Масси, Руллан и, как мне сообщили, также император. Единственное отличие в том, что почтенный старик генерал искренне думает то, что пишет. У него дочь в Неверской женской обители. Вы наверняка знаете эту монахиню, поскольку она учительствует в Лурде…
— Я знаком с ней, монсеньер, и мы дважды беседовали о Бернадетте. Естественно, мне хотелось услышать мнение учительницы, ежедневно наблюдающей девочку…
— Мнение учительницы, которая должна знать Бернадетту лучше, чем любой другой, несравненно убедительнее, чем суждение священника.
Глаза Мари Доминика Перамаля загораются гневом.
— У меня создалось впечатление, что учительница не слишком благоволит к девочке, — говорит он.
— Как я наслышан, — продолжает епископ, помолчав и не сводя глаз с лица Перамаля, — сестра Возу — украшение своего ордена. Она выделяется во всем. Есть даже несколько мечтателей, утверждающих, что она овеяна истинной святостью. Сестра Возу родом из превосходной семьи. Через несколько лет ее наверняка сделают наставницей послушниц, а позже и настоятельницей монастыря. Разве может монахиня, столь добродетельная и заслуженная, беспричинно не доверять такому Божьему созданию, как Бернадетта Субиру?
— Монахиня Возу, — возражает Перамаль, — вполне может претендовать на высшие посты в церкви и почетное место на Небесах. Но когда с ней беседуешь, отнюдь не возникает ощущения, что перед тобой особенное, а тем паче богоизбранное существо. Сестра Возу не проникает в душу. А Бернадетта Субиру, наоборот, проникает. Не знаю, что сидит в этой девочке. Обыкновенная простая девчонка. И лицо у нее, как у большинства этих простолюдинок, носящих имена Дутрелу, Уру, Гозо, Габизо. Просто зло берет, что такая вот сомнительная особа своими вымыслами взбудоражила всю Францию. Но вдруг она наивнейшим тоном так ответит на ваш вопрос, что ее ответ потом не дает вам спать по ночам. Этот ответ не выходит у вас из головы. И глаза девочки тоже не так легко забыть. Вы знаете, монсеньер, я не мечтатель и не фантазер-мистик, с Божьей помощью я прочно стою на земле. Если я долго не вижусь с Бернадеттой, мои сомнения возрастают. Но если я приглашаю ее к себе, как было недавно, то не я привожу ее в замешательство, а она меня. Ибо — клянусь Всеблагой Богоматерью — от девочки веет такой необыкновенной правдивостью, что, когда она говорит, невольно веришь каждому ее слову, а почему — сам не могу понять…
— Вы сейчас исполнили настоящий гимн во славу Бернадетты Субиру, — кивает епископ, но лицо его хранит непроницаемое выражение. Однако Перамаль не дает сбить себя с толку.
— Я не заслуживаю вашей похвалы, монсеньер. Я всего лишь стараюсь удержать моих священников от посещения Грота. Это тоже достаточно трудно, в особенности когда речь идет о духовенстве небольших сельских приходов. Но я не могу способствовать просветлению и успокоению душ, поскольку сам нахожусь в средоточии всеобщего смятения. Хоть я и стар, мне очень нужна ваша отеческая помощь, монсеньер! Подумайте о целебном источнике! Подумайте об исцелении ребенка Бугугортов! А со вчерашнего дня опять ходит слух — мол, благословенный источник вернул зрение слепому крестьянскому мальчику. Если мы даже сбросим со счетов личность Бернадетты Субиру, нет сомнения в том, что чудеса действительно происходят…
— Стоп! — перебивает его епископ. — Вы не хуже меня знаете, что ни я, ни вы не вправе прибегнуть к этому крайне опасному понятию. Лишь одна-единственная инстанция — Римская курия — вправе решать, имеем ли мы дело с подлинным чудом или же с фальсификацией…
— Вы совершенно правы, ваше преосвященство, — живо подхватывает декан. — Но чтобы Римская курия могла вынести решение, она должна иметь необходимый материал. Я, недостойный слуга Господа, припадаю к стопам своего епископа и говорю: не знаю, что мне делать. Весь мой приход живет в глубочайшей душевной растерянности. Лурд стал полем сражения — к сожалению, не только в переносном смысле: вчера жандармы применили оружие против толпы. Экзальтированные дамы вроде мадам Милле ведут себя вызывающе. Вольнодумцы извлекают из этих происшествий одно преимущество за другим. Трезвые, здравомыслящие головы уже не знают, что и думать. Да я и сам не знаю. И поэтому, монсеньер, смею обратиться к вам с настоятельнейшей просьбой: рассейте эту душевную смуту! Созовите епископскую комиссию для расследования всех обстоятельств, чтобы народ обрел, наконец, опору!
Тяжело опираясь на посох, епископ поднимается с места и шаркающей походкой подходит к письменному столу. Из ящика он достает пачку исписанных листов и швыряет ее на стол.
— Вот вам ваша епископская комиссия, — говорит он. — Ее созыв разработан во всех деталях.
— И когда вы велите ей начать работу? — взволнованно спрашивает Перамаль.
— Если Богу будет угодно — никогда, — обрезает его Бертран Север и раздраженным жестом приказывает ему не вставать. Потом подходит к окну и глядит на цветущие кусты сирени в саду. — Чудо — весьма и весьма страшная вещь, — бормочет старик, — все равно, признается оно или нет. Людей обуревают желания. Потому они и тоскуют по чудесам. И многие из наших верующих хотят не столько верить, сколько обрести уверенность. И эту уверенность должно принести им чудо. Господь Бог совершенно прав, лишь крайне редко ниспосылая нам чудеса. Ибо чего стоила бы вся наша вера, если бы каждый тупица ежедневно находил ей подтверждение. Даже ежедневное чудо богослужения таится в натуральных образах хлеба и вина. Нет, нет и нет, дорогой, сверхъестественное — яд для любой институции, будто то государство, будь то церковь. Возьмите явление, которое люди обычно называют гениальностью, — например, Наполеона Бонапарта. Что дал этот так называемый гений человечеству? Кровавую смуту. И многие святые, к которым мы взываем, в свое время тоже вносили в церковь смуту — правда, бескровную. Желание быть выше других или даже действительное превосходство над другими — это покушение на прерогативу Господа, которое мы, пастыри христианской общины, должны отвергать, пока нас не убедит какое-то неопровержимое доказательство Божественной милости. Церковь как мистическое Тело Христово есть совокупность святости, иными словами: