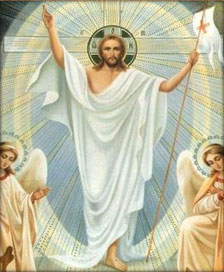суждено пользоваться тем, что она утратила. Она больше не увидит живую Даму. Вместо нее в Гроте стоит заурядная статуя Мадонны работы скульптора Фабиша, копия миллионов пустых копий, которые так же мало походят на живую и любимую Даму, как надгробный памятник на лежащего под ним. Ей и без того было неимоверно тяжко глядеть в покинутый Грот после того последнего прощания. И все же эта покинутость, эта темная пустота оставалась фоном былого присутствия и возможного возвращения. А теперь там стоит чуждая ей фигура из каррарского мрамора с выкрашенным голубой краской поясом, некогда вылепленная мастером из гипса, — стоит всегда, и в любую минуту ее может увидеть каждый. Она вытесняет реальную и живую из памяти той, кто ее действительно видел. С тяжелым сердцем Бернадетта отворачивается и уходит. Но изумленные монахини склонны считать это странное поведение свидетельством отсутствия у Бернадетты подлинного благочестия.
При выезде из города коляске еще раз приходится остановиться. Откуда-то появляется мельник Антуан Николо; он бежит рядом с коляской, держа в руках букет белых роз, который смущенно протягивает Бернадетте.
— Эти розы — будущей Христовой невесте и любимому чаду Царицы Роз, — торжественно возглашает он, радуясь, что не запнулся на этой с трудом заученной фразе.
— О, месье Антуан, эти розы слишком хороши, будет жаль, если они завянут за долгую дорогу! — испуганно лепечет Бернадетта, а одна из монахинь тем временем спокойно принимает из рук Антуана букет.
— Я не хотел сегодня идти к кашо вместе со всеми, мадемуазель Бернадетта, — с трудом выдавливает Антуан. — Но я хочу вам кое-что сказать…
— Что же вы хотите мне сказать, месье Антуан?
— Что я хочу сказать… Это так трудно…
Долгое молчание. Спутницы Бернадетты сидят в коляске, бдительно выпрямив спины. Бернадетта пристально вглядывается в лицо Антуана. А он в полном отчаянии теребит свои черные усы, на лбу крупными каплями выступает пот.
— Я хочу сказать, — наконец выпаливает он, — что моя матушка уже очень стара. А мы с ней так привыкли друг к другу и так славно ладим между собой. Да и мне скоро уж тридцать четыре. Вот я и решил вовсе не жениться, мадемуазель Бернадетта. Ведь мать и невестка обычно ладят плохо, правда? Лучше уж я останусь бобылем, вот что я хотел вам сказать… И желаю вам счастливого пути, Бернадетта…
Она вынимает из букета одну розу и протягивает ему.
— Прощайте, месье Антуан…
НАСТАВНИЦА ПОСЛУШНИЦ
Мать Жозефина Энбер, настоятельница монастыря Святой Жильдарды, спускается по лестнице в приемную, где Бернадетта ждет ее уже битый час. По лицу почтенной монахини незаметно, что наверху, в своей келье, она только что усердно молилась, чтобы унять в душе тревогу, вызванную прибытием в монастырь знаменитой чудотворицы из Лурда, которая должна стать послушницей в их обители. Словно не ведая, кто ее ожидает в приемной, мать Энбер бегло оглядывает посетительницу, вставшую при ее появлении.
— Значит, это вас привезли к нам из Лурда? Вы собираетесь стать послушницей в нашей обители? — строго спрашивает она, и сразу оробевшая Бернадетта догадывается, что ей опять собираются учинить допрос. Голос ее звучит едва слышно:
— Да, мадам настоятельница.
— А как вас зовут?
«О Боже, она ведь наверняка знает, как меня зовут! Просто поступает как все. Но нельзя подавать виду».
— Меня зовут Бернадетта Субиру, мадам настоятельница.
— Сколько вам лет?
— Уже минуло двадцать, мадам настоятельница.
— Что вы умеете делать?
— О, совсем немногое, мадам настоятельница, — говорит Бернадетта.
В который раз ответ ее настолько правдив, что кажется дерзким. Настоятельница слегка поднимает взгляд, стараясь прочесть что-то на непроницаемо спокойном лице Бернадетты.
— Ну, так как же, дитя мое? — говорит она. — Как же нам с вами поступить?
Бернадетта полагает, что отвечать на этот вопрос не ее дело. Поэтому молчит. И почтенная настоятельница, выдержав паузу, вынуждена продолжить беседу:
— Однако каким делом вы собирались заняться в миру?
— О, мадам настоятельница, я думала, что, может быть, справлюсь с работой служанки…
В этом ответе настоятельнице опять мерещится какой-то намек, недоступный ее пониманию. Что же такое эта девица? Пятидесятилетняя монахиня поджимает губы, так что складки у рта прорисовываются еще резче. И в следующем вопросе звучит уже некоторая язвительность:
— Кто же рекомендовал вас в нашу обитель?
— Думаю, его милость господин епископ Неверский…
— Вот как, монсеньер Форкад! — слегка насмешливо восклицает настоятельница, обращаясь уже к долговязой и тощей монахине, в этот момент появившейся в дверях: — Вы слышали? Монсеньер Форкад, этот дорогой нам всем святой человек! Эта детская душа вечно дает рекомендации кому попало… Это новая кандидатка в послушницы, приехала из Лурда. Как вы сказали вас зовут, дочь моя?
— Бернадетта Субиру, мадам настоятельница.
— А это наша высокочтимая мать-наставница послушниц, которой вам надлежит повиноваться.
— Мы уже знакомы, — говорит мать Тереза Возу, не выдавая своего удивления. Некогда миловидное лицо бывшей учительницы, этой, по выражению аббата Помьяна, Христовой воительницы, за последний год обвисло, тонкие губы, растягиваясь в улыбке, некрасиво обнажают десны. В маленьких, глубоко посаженных глазках нет мира и покоя самоотречения, в них сверкает какая-то странная горечь. Бернадетта смотрит на Возу так, как часто смотрела на нее раньше, одиноко стоя перед ней в пустоте пространства, где ее подвергали экзамену. Мать Энбер спрашивает уже наставницу:
— Недавно послушница Анжелин по собственному желанию вернулась в мир; кто теперь выполняет ее работу?
— Поскольку послушница Анжелин лишь вчера покинула нашу обитель, — отвечает мать Возу, — работа помощницы на кухне еще никому не поручена, мадам настоятельница.
— Тем лучше. Значит, новенькая уже с завтрашнего дня могла бы взять на себя это послушание… — И, обращаясь к Бернадетте, добавляет со снисходительной мягкостью в голосе: — При условии, дитя мое, что к завтрашнему дню вы успеете отдохнуть с дороги и что состояние вашего здоровья позволяет выполнять эту работу. Речь идет в основном о мытье посуды, чистке овощей и картофеля, мытье пола и подметании коридоров и лестниц — короче говоря, о всей черной работе, какую у нас тут приходится делать. Заметьте: я вам не приказываю, а только предлагаю. Ежели вы чувствуете, что не в состоянии принять мое предложение по причинам физического или душевного свойства, скажите об этом тотчас, пожалуйста.
— О нет, мадам настоятельница! — перебивает ее Бернадетта. — Эта работа мне по душе, я даже очень рада, что мне поручат работу на кухне…
Она и не подозревает, что своим ответом блестяще выдержала «экзамен на унижение». И этот устроенный настоятельницей экзамен — такое же досадное недоразумение, как и многие другие, случающиеся при общении Бернадетты с окружающими. Она не генеральская дочь, как мать наставница, и не дочь землевладельца, как мать Энбер. Мытье посуды и полов, подметание лестниц — повседневный труд ее матери, в ее глазах он не унизителен и оскорбителен, а просто знаком с детства и естествен: работа как работа. Монахини ожидали увидеть тщеславную мирянку, опьяненную своей славой. После всех торжеств вокруг Массабьеля такое предположение напрашивалось само собой. А Бернадетта искренне рада, что на нее хотят возложить самую черную работу. Она счастливо улыбается, и настоятельница удовлетворенно кивает:
— Ну хорошо. А теперь следуйте за матерью-наставницей, которая проводит вас в трапезную, где вы сможете поужинать за столом наших лурдских сестер…
— Разрешите, мадам настоятельница, обсудить еще один вопрос, — подает голос Мария Тереза Возу. — Новенькая носит имя, которое вызвало в миру много шума, то и дело мелькает в газетах и даже превозносится в Пастырских посланиях одного епископа. Для нас же здесь, в стенах монастыря, громкие имена имеют мало смысла, даже если они приобретены ценой больших усилий. Мы отрешаемся от всего, что мы сами значим для мира и что мир значит для нас. Кроме того, имя Бернадетта звучит по-детски ласкательно…
— Совершенно с вами согласна! — подхватывает мать Жозефина. — Перед принятием послушания вам надлежит выбрать себе другое имя. И лучше всего сделать это сейчас… Может быть, вы уже подумали о том, какое имя выбрать, дитя мое?
Нет, Бернадетта не подумала.
— А как зовут вашу крестную мать?
— Моя крестная — тетушка Бернарда Кастеро, мадам настоятельница.
— Тогда вам наверняка понравится, если вас нарекут Мария Бернарда, — решает настоятельница.
И Бернадетта легко и радостно приносит первую жертву — свое мирское имя, которым ее всегда звали и которое она любит.
На следующий день ко времени обеда в трапезной собралось около сорока женщин, в том числе девять уже облачившихся в послушническое платье, за столом которых Бернадетта занимает место в дальнем конце. Чтица, стоящая за кафедрой, только успевает открыть ту страницу Библии, которая на сегодняшний день выбрана для чтения вслух, как вдруг по знаку матери Жозефины Энбер берет слово мать-наставница:
— Дорогие сестры, вы знаете, что со вчерашнего дня в нашей обители появилась новенькая. Ее зовут Бернадетта Субиру, и родом она из Лурда. В ближайшие дни она примет послушание, и ее нарекут Мария Бернарда. Кое-кто из вас наверняка наслышан о таинственных явлениях и мистических событиях, которые выпали на долю мадемуазель Субиру и целительное действие которых вызвало такую сенсацию. Им посвящено также Пастырское послание епископа Тарбского… Подойдите сюда, дочь моя, и расскажите нам просто и коротко о тех днях…
Бернадетта стоит за кафедрой и обводит растерянным взглядом лица молодых и старых женщин; на этих лицах написано странное безразличие ко всему, бесстрастное спокойствие и явная усталость после тяжелой работы с раннего утра. Некоторые взирают на новенькую с детским любопытством, другие — потухшими глазами, три-четыре пары глаз излучают тепло и приязнь. Бернадетта, столько раз уже рассказывавшая свою историю, совсем теряется, впервые столкнувшись с таким сдержанно-холодным приемом. Запинаясь на каждом слове, как семилетний ребенок, она с трудом выдавливает несколько корявых фраз.
— Однажды зимой… родители послали нас — мою сестру Марию и меня — набрать хворосту, и с нами была еще одна девочка, ее звали Жанна Абади. Мария и Жанна оставили меня одну на острове Шале, что у мельничного ручья, напротив Грота. И вдруг в нише скалы наверху появилась очень красивая Дама. И одежда на ней тоже была очень красивая. Позже я рассказала о ней Марии и Жанне, а потом матери. Но мама запретила мне туда ходить. А я все-таки пошла. И каждый раз видела Даму. И на третий раз она заговорила со мной и попросила, чтобы я приходила к Гроту каждый день пятнадцать дней кряду. И я приходила туда пятнадцать дней кряду, и Дамы не было только два раза, один раз в