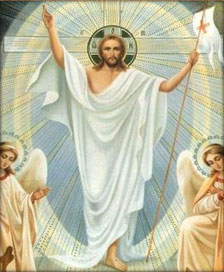еще густым басом:
— Бернадетта Субиру — дитя моего прихода. Провидение на долгие годы препоручило ее моему слабому покровительству…
— Кому же это неизвестно, монсеньер! — улыбается настоятельница, слегка наклонив голову. — Хотя по указанию свыше в нашей обители было не принято излишне обсуждать те великие события, мы все же достаточно осведомлены о них во всех подробностях.
После обеда Мария Возу и сестра Натали заходят за деканом, чтобы проводить его к больной. Сердце старика колотится учащенно.
— Узнает ли она меня? — спрашивает он.
— О, она ясно мыслит и спокойна, как никогда! — отвечает Натали, не скрывая слез.
Просторная палата с двумя высокими окнами и тремя кроватями под общим прозрачным пологом, подвешенным в центре комнаты к потолку. Две кровати пусты. Бернадетта лежит на третьей, в правом углу. У противоположной стены стоит узкий комодик со статуей Мадонны — но не копией той, что некогда изготовил Фабиш. Выше, на стене, распятие. Вот и все, если не считать кресла и нескольких низеньких стульев. Мари Доминик Перамаль, тяжело ступая — звук собственных шагов неприятно отдается в его ушах, — подходит к кровати в правом углу. И видит перед собой не монахиню тридцати пяти лет, а совсем юную девушку с узким прозрачно-бледным лицом. Крылья носа необычайно благородной формы слегка вздрагивают. Детские губы почти бескровны. Довольно высокий лоб наполовину скрыт компрессом. Огромные темные глаза глядят на мир внимательно и в то же время отрешенно. Это глаза Бернадетты Субиру! Декан, старик под семьдесят, заливается краской смущения. Откашлявшись и помолчав, он наконец выдавливает:
— Вот я и приехал…
Кто-то пододвигает ему низенький стульчик, и дородный старик осторожно садится, опасаясь, что под его тяжестью стульчик развалится. На одеяле покоятся две крохотные руки цвета старой слоновой кости, которые пытаются протянуться навстречу гостю. Попытка не удается. С величайшей осторожностью декан берет своей огромной ручищей одну из этих бессильных миниатюрных рук и из почтения едва прикасается к ней губами. Проходит целых две минуты, прежде чем Бернадетте удается тихо, но удивительно четко и внятно произнести:
— Месье кюре, я вам не солгала…
Перамаль с трудом удерживает слезы.
— Бог видит, сестра, вы мне не солгали! — шепчет он. — Но я был недостоин вас.
Отсвет пережитого страха пробегает по лицу девушки.
— А меня все расспрашивают и расспрашивают… — И после томительной паузы дрожащим голосом выдыхает: — Я ее видела… Да, я ее видела…
Декан не знает, как и почему на язык ему вдруг наворачивается прежнее «ты», словно не прошло двух десятков лет и перед ним лежит не монахиня Мария Бернарда с печатью духовного совершенства на лице, а маленькая девочка Бернадетта Субиру, существо чистое, как родник, в котором люди, однако, ничего разглядеть не могут. Перамаль придвигает лицо ближе к умирающей.
— Да, ты ее видела, о дитя мое! — кивает он. — И скоро вновь увидишь…
Огромные глаза Бернадетты затягиваются дымкой. Она думает. А думы будят воспоминания. «Вон там у камина в своем кабинете сидит кюре. Я тоже там, и на мне капюле, потому что на дворе очень холодно. И я хочу пойти в услужение к мадам Милле. А он спрашивает, не найдет ли Дама лучшего занятия для меня…»
И тут у Бернадетты со вздохом вырывается:
— О нет, месье кюре, я вовсе не уверена, что Дама возьмет меня к себе в услужение…
Наконец-то декану удается перейти на тот легкий непринужденный тон, к какому он с самого начала стремился.
— Если в чем-то вообще можно быть уверенным, дитя мое, — говорит он, — то только в этом. Это — самое меньшее, что сделает для тебя Дама…
В глазах девушки появляется лукавая, даже насмешливая искорка. Теперь все так добры и ласковы с ней. Искренне ли или только делают вид из жалости?
— Нет, я совсем не уверена, совсем не уверена, о нет! — говорит тоненький голосок, правдивый, как всегда. — Ведь я ничего не сделала, только болела… И наверное, недостаточно страдала…
На этот раз Перамалю не удается подавить рыдания:
— Ты страдала более чем достаточно, верь мне, дитя мое…
Хранилище. Тут на застывшем лице девушки мелькает подобие улыбки. И тоненький голосок говорит уже не по-французски, а на грубом наречии ее детства и родных мест.
— Да что вы, господин декан! — возражает дочка Франсуа Субиру с улицы Птит-Фоссе. — Знаю я больных. Мы все немного преувеличиваем. И страдания наши вовсе не так уж велики… — И, судорожно ловя ртом воздух, продолжает, запинаясь на каждом слове: — Думаю… у меня в жизни… было… меньше страданий… чем радостей… В те дни… в те дни…
Силы отказывают ей. Прозрачно-бледное лицо искажается мукой. Глаза вылезают из орбит. Доктор Сен-Сир, стоящий в глубине комнаты, делает Перамалю знак отойти. Тот с трудом поднимается со стульчика. Его деревенские башмаки невыносимо скрипят.
Все это происходит в среду шестнадцатого апреля. День стоит ясный и теплый. Завтра — Чистый четверг, а значит, и торжественная литургия в церкви. В это время у милосердных сестер обители Святой Жильдарды всегда много дел. Около полудня Натали возвращается из города. В воротах она вдруг останавливается: будто что-то давит на нее, мешая идти. «Мария Бернарда!» — мелькает в ее мозгу. Она стремглав бросается в больницу, встроенную в комплекс монастырских зданий. Сестры, приставленные к больной, усадили Бернадетту в кресло: лежа она дышать не может. И как-то боком привалившись к спинке кресла, она глядит на Натали, расширенными от ужаса глазами и криком кричит:
— Сестра!.. Я боюсь… Я боюсь, сестра…
Натали бросается перед ней на колени, ловит ее руки.
— Почему вы боитесь, чего вы боитесь, друг мой?
Грудь больной с трудом поднимается и опускается. Она может выдавить лишь отдельные слова:
— Мне… была… оказана… такая… милость… Я должна… оправдать… а не могу…
— Думайте о нашем любимом Спасителе, сестра! — уговаривает больную Натали, изо всех сил борясь с подступающими к горлу рыданиями. Но Бернадетта думает только об одном: о той милости, которая выпала ей на долю и которой она недостойна.
— Я боюсь… боюсь.. — стонет она. И опять: — Я боюсь… я так боюсь…
Натали тщетно ищет успокоительные капли. Потом просто кладет ладони на лоб Бернадетты, не зная больше, чем ей помочь.
— У вас опять сильные боли, — шепчет она, стиснув зубы.
— Недостаточно сильные… недостаточно… — хрипит Бернадетта.
Натали наклоняется к ее лицу.
— Мы все будем помогать вам, любимая Мария Бернарда… Мы будем горячо и помногу молиться за вас, все время, и теперь, и потом…
— О, пожалуйста, сестра, обязательно сделайте это! — по-детски просит Бернадетта.
Натали посылает к настоятельнице сказать, что дела очень плохи. Нужно срочно позвать доктора Сен-Сира и аббата Февра. Бернадетта еще несколько минут корчится от боли. Потом вдруг глубоко вздыхает и спрашивает спокойно, как люди спрашивают, который час:
— Какой у нас нынче день недели?
— Среда Страстной недели, сестра, — отвечает Натали.
— Значит, завтра четверг, — удивляется Бернадетта.
— Да, завтра большой праздник — Чистый четверг!
— Большой праздник — Чистый четверг! — эхом отзывается Бернадетта, и радость достигнутой цели лучится в ее глазах. Натали ничего не понимает. Ей в голову не приходит, что одиннадцатого февраля, когда дочки Субиру пошли за хворостом и Бернадетта сидела на берегу ручья, сняв один чулок и держа его в руке, а другой рукой терла глаза, силясь понять, спит она или нет, тоже был четверг. И еще был четверг, когда Дама сказала: идите к источнику, напейтесь и омойте лицо и руки. И в четверг же Дама назвала себя. Четверг — это ее день. Четверг — это день великих подарков судьбы. И завтра снова четверг…
— Я больше ничего не боюсь, сестра, я буду спокойно лежать, — говорит Бернадетта, словно раскаявшийся шалун, обещающий няньке хорошо себя вести.
И тут же заваливается на бок. Ее переносят на кровать. И считают, что она умерла. Но дыхание возвращается к ней тяжелыми, короткими толчками. Палата заполняется людьми. Доктор и капеллан делают свое дело. Мать Энбер, мать Возу и другие монахини стоят на коленях. Мария Тереза бледна как смерть. Возле двери неподвижно стоит Перамаль: он слишком высок и слишком громоздок для этой комнаты и этой тихой смерти. Пальцы его судорожно сцеплены перед грудью.
Бернадетта вновь открывает глаза. Она все понимает. С неожиданной силой, какой за ней не наблюдалось уже много дней, она вдруг размашисто крестит свое лицо — так, как учила ее Дама. Присутствующие начинают читать отходную молитву. Аббат Февр затягивает Песнь песней Соломона — те слова, которыми душа девушки приветствует Небесного Жениха:
— «Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот голос моего возлюбленного, который стучится: „Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои — ночною влагою…“»
Глаза Бернадетты, странно сияя, смотрят куда-то в пустоту. Окружающие думают, что она взглядом ищет распятие. Его снимают со стены и кладут ей на грудь. Она горячо прижимает его к себе. Но глаза ее по-прежнему устремлены вдаль. Внезапно судорога пробегает по ее телу. Кажется, будто какая-то сила поднимает ее с ложа. И из ее груди вырывается звучный вибрирующий женский голос, отзывающийся долгим эхом:
— Я люблю… Люблю!
Это вибрирующее «Я люблю!» плывет по комнате, словно звук колокола. Оно звучит так властно, что молитва прекращается и все в комнате умолкают. Лишь Мария Тереза, раскинув в стороны руки наподобие креста, подползает на коленях к одру смерти, чтобы быть поближе к благословенной избраннице. Мало кто из людей видел наставницу плачущей. Но теперь она поверила: Дама здесь, в комнате. Всеблагая, Всемилостивая сама явилась, чтобы встретить и перенести на Небо свое дитя. Мария Тереза верит, что в полном одиночестве умирания святая девушка именно Ей, вновь возвратившейся, крикнула: «Я люблю! Я люблю Тебя!» И теперь она, монахиня Возу, вечно сомневавшаяся, тоже удостоилась чести присутствовать при явлении Дамы. «Взгляни на меня, отвергнутую, ожесточенную, завистливую и безжалостную!» Рыдания рвутся из груди Марии Терезы. Прерывающимся голосом она начинает «Ave». Но Бернадетта бросает на свою бывшую учительницу строгий взгляд, взывающий к сочувствию. Она знает: от нее ждут, чтобы она повторила слова молитвы. Но последние силы она потратила на великий зов любви, и губы ее шевелятся беззвучно. Потом ей все же удается повторить несколько слов:
— Теперь и в час…
И больше ничего.
Обычно смерть в одно мгновение гасит жизнь на лице человека. Но лицо Бернадетты Субиру она так же мгновенно заставляет светиться. С последним вздохом к нему вернулось то выражение полной