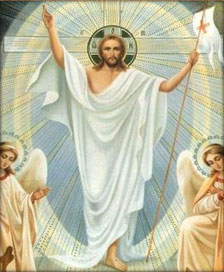религиозной мудростью питали и растили «я» человека посредством архетипической символики священных текстов, искусства, поэзии, философии, мифов, не оставлявших места для рефлексии о внутреннем «я», которому поэтому не грозили ни гипертрофированный рост, ни болезненные отклонения. К сожалению, такой культурной среды больше не существует на Западе, во всяком случае, она перестала быть общим достоянием. Сегодня она может быть восстановлена усилиями образованного и просвещённого меньшинства.
Пример из Дзен
Хотя эта книга посвящена преимущественно христианской мистике, мы могли бы для пользы дела отступить от темы, чтобы рассмотреть пример внутреннего пробуждения, приведённый в одном восточном тексте. В этом примере все слагаемые опыта описаны столь выразительно и с такой протокольной точностью, как будто речь идёт о клиническом случае. Это рассказ о сатори, духовном просветлении, моменте, когда распахиваются глубины духа, открывая человеку его подлинное «я». Сатори происходит в покое, который мы с вами назвали бы созерцательным, но вместе с тем – внезапно, вдруг, поверх тихой сосредоточенности, свидетельствуя тем самым, что одного внутреннего покоя ещё недостаточно для встречи со своей глубинной свободой.
Ценнее всего в этом примере то, что в нём совершенно отсутствует отсылка к чему-либо сверхъестественному или мистическому. Дзен вообще, в известном смысле, антимистичен. Потому он и даёт нам возможность наблюдать за естественными движениями внутреннего «я». Не случайно один из самых ярких современных выразителей дзен Д.Т. Судзуки настойчиво противопоставляет описываемое событие христианскому мистическому опыту, подчёркивая его «природный», «психологический» характер. Поэтому мы надеемся, что никого не обидим, если в свою очередь отнесёмся к нему как явлению психологическому, допустив, что в данном случае обошлось без вмешательства мистической благодати. [Возможен ли такой опыт без благодати, на чисто физическом уровне, и не будет ли более правильным, поспорив с Судзуки, назвать его мистическим? Эти вопросы могли бы составить предмет особого исследования. Пока же, удобства ради, примем эту историю в том виде, в каком её преподносит Судзуки: как описание эмпирического факта и физического явления].
Сатори составляет сердцевину дзен. Это радикальный духовный опыт, в котором после долгого очищения и испытания и, конечно же, определённой духовной подготовки монах переживает нечто вроде внутреннего взрыва, раскалывающего его ложное внешнее «я» и открывающего «первоначальное лицо», «изначальное я, каким оно было до рождения» (или, выражаясь терминологически, его «природу Будды». Назовёте ли вы это реальное «я» «пуруша» (дух), как в индуизме, «просветлённым» или «таковостью», как в дзен, — это будет всё то же внутреннее «я», о котором мы сейчас говорим).
Такое сатори пережил один китайский чиновник из династии Сун, мирянин, ученик дзенских наставников, некто Чао-Пен, когда тихо сидел в своём кабинете, с умиротворённым умом предаваясь тому, что мы бы назвали созерцательной молитвой. По терминологии дзен, он достиг той внутренней зрелости, когда его подлинное «я» было готово вырваться наружу и опрокинуть в сатори всё его существо. Как учат дзенские наставники, когда человек достигает такой точки, любой внезапный звук, слово или событие, может вызвать «просветление», суть которого в совершенно ясном осознании ничтожности своего внешнего «я» и последующем высвобождении «я» подлинного, внутреннего. Всё это западные термины. На языке дзен настоящее «я» – выше разделения на «я» и «не-я». Чао-Пен тихо сидел в своём кабинете, как вдруг услышал раскат грома – «двери ума распахнулись» в глубинах его безмолвного естества, явив ему его «изначальное я», или таковость. По китайскому обычаю всё происшедшее передано одним четверостишьем, по праву снискавшим бессмертие:
Свободный от мыслей, я мирно сидел в кабинете,
Источник мыслей был спокоен и тих, как вода;
Вдруг – грома раскат, двери ума распахнулись,
И вот – здесь сидит просто старик…
Этот пример, наверное, озадачит и даже покоробит тех, кто ждёт от духовного переживания чего-то «неземного». Но именно его бытовой характер делает его как нельзя более пригодным для наших целей. Судзуки с обычной для него иронией извлекает выгоду из сдержанного, несентиментального юмора этой истории, противопоставляя её более привычным для Запада чувственным полётам любовной мистики. Это отсутствие чувственных ноток нельзя считать специфически «восточной» чертой этого текста. Во всех духовных традициях имеет место противопоставление чувственного (бхакти) и интеллектуального, тяготеющего к осознанию (раджа-йога) религиозного опыта. Возможно, приведённую историю отличает ярко выраженный китайский колорит, но того, кто знаком с «Облаком неведения» и другими текстами западной апофатической мистики, это не смутит.
Итак, Чао-Пен видит, как его ложное «я» разорвало в щепки и унесло как бы внезапным порывом сильного ветра. И вот сидит он, тот же самый и всё-таки совершенно иной – вечный Чао-Пен, имени которого он уже не знает, одновременно смиренный и могущественный, страшный и забавный, вознёсшийся над словами и над всяким сравнением, над «да» и «нет», над «субъектом» и «объектом», над «я» и «не-я». Это подобно удивительной, потрясающей, невыразимой, благоговейной, смиренной радости, с которой христианин сознаёт: «я и Господь – одно». Если же он пытается истолковать это единство словами – начинает, к примеру, говорить о слиянии двух субстанций – то вынужден постоянно одёргивать себя: «нет, не то, не то». По той же причине Судзуки стремится подчеркнуть, что в этом свидетельстве нет ни слова о единстве с «Другим». Что ж, предположим, в этом единстве не было ничего сверхъестественного… В любом случае, этот опыт содержит несколько важных моментов, проливающих свет на то, что я пытаюсь объяснить.
Прежде всего, ещё до сатори Чао-Пен находится в состоянии молчаливой сосредоточенности. (Он «свободен от мыслей». Он вступил в «облако неведения», в котором ум «пуст», но не опустошён и не пассивен. Ибо его отрешённость есть своего рода полнота, и его тишина не мертва и не бездеятельна. Она заряжена бесконечными возможностями и напряжённым ожиданием их осуществления, без малейшего представления о том, чем оно окажется, и желания придать ему заранее продуманную форму или определённое направление. Это состояние описано как «спокойствие источника ума», что означает, по крайней мере для меня, что Чао-Пен был способен принять — и, наверное, действительно принял — не задавая никаких вопросов и без малейшего психологического усилия — нечто такое, чего он не знал и о чём не заботился.]
Безмятежное неведение — ещё не осознание своего истинного «я». Но это та естественная среда, в которой последнему только и возможно обнаружить своё тайное присутствие. Внезапный раскат грома был столь силён, что вызвал мгновенное озарение: «двери» внутреннего сознания распахнулись, и иллюзорное, внешнее «я» оказалось застигнуто во всей своей ничтожности и тут же развеяно, как и подобает иллюзиям. Оно исчезло, будто никогда и не существовало, – иллюзия и тень иллюзии, плотских привязанностей и самообмана. Вместо него во всей своей реальности явило себя настоящее «я». Слово «старик» здесь, конечно же, не означает «ветхого человека». Апостол Павел, напротив, назвал бы его «новым человеком». (Тогда почему же всё-таки «старик»? Согласно буддизму, истинное «я» существует в нетварном Абсолюте и само является нетварным. Такое «я» всегда старо и вечно ново, потому что оно обитает по ту сторону «старого» и «нового» – в вечности).
Но почему это «я» названо «простым»? В других описаниях сатори вид открывшегося внутреннего «я» вызывает удивление или даже наводит ужас, подобно рыку льва с золотой гривой. Этим сравнениям можно найти аналогии в поэзии Уильяма Блейка. Но здесь Чао-Пен радуется, обнаружив, что он «просто старик», тому, что его настоящее «я» оказалось совершенно простым, смиренным, нищим и непритязательным. Внутреннее «я» не то же самое, что идеальное «я», не плод воображения, с готовностью потворствующего нашей неуёмной жажде величия, героизма и непогрешимости. Нет, подлинное «я» – только мы сами и ничего больше. Не больше, но и не меньше. Мы каковы мы в глазах Бога, говоря христианским языком. Во всей нашей неповторимости, достоинстве, ничтожестве и – несказанном величии, каким одарил нас Бог и которое мы делим с Ним, потому что Он наш Отец и «мы Им живём и движемся и существуем» (Деян.17:28).
Итак, краткий стих лаконично передаёт опыт человека, с огромным облегчением осознавшего, что он, в конце концов, не равен своему ложному «я» и всё время был только самим собой, простым «я», не ищущим ни славы, ни величия и не заботящегося о себе сверх необходимого.
Христианский подход
Открытие внутреннего «я» играет сходную роль и в христианской мистике. Но есть одно существенное отличие, которое ясно выражено у святого Августина. Дзен, по-видимому, не идёт дальше внутреннего «я». Христианство же видит в нём лишь ступень к познанию Бога. Человек – образ Божий, и его внутреннее «я» – своего рода зеркало, в котором Бог не только отражается, но и открывает Себя человеку. Таким образом, через тёмную тайну нашего внутреннего «я» мы можем «как бы сквозь тусклое стекло» лицезреть Бога. Это, конечно, метафора, призванная выразить тот факт, что нашей душе доступно непосредственное общение с Богом, живущим «в нас». Если мы войдём внутрь себя, обретём наше истинное «я», а затем двинемся дальше, то вступим в тьму кромешную, где предстанем пред «Аз есмь» Всемогущего. Приверженцы дзен, наверное, согласились бы с утверждением, что их интересует исключительно то, что «дано» в опыте, а христианство надстраивает над опытом богословское толкование. Тут мы сталкиваемся с отличительной особенностью христианской, иудейской и исламской мистики. Для неё существует непреодолимая метафизическая пропасть между Богом и человеком, между «Я» Всемогущего и нашим внутренним «я», но парадоксальным образом наше внутреннее «я» укоренено в Боге и Бог пребывает в нём. Нужно, однако, различать переживание своего внутреннего «я» и познание Бога, открывающего Себя через него. Зеркало отлично от образа, который в нём отражается. Таково богословское основание нашей веры.
Обретение внутреннего «я», по крайней мере теоретически, может быть следствием естественного, психологического очищения. Но познание Бога – это всегда причастие сверхъестественному свету, посредством которого Бог открывает Своё присутствие в сердцевине нашего внутреннего я»». Следовательно, христианский мистический опыт не просто обретение внутреннего «я», но также опытное постижение обитающего в нём Бога сверхъестественным усилием веры. Вместо дальнейших пояснений обратимся к некоторым классическим текстам, первый из которых – отрывок из святого Августина:
«Итак, соприроден ли Бог душе? Наш разум стремится найти Его. Он ищет Истину, не подверженную изменениям, Сущность, не способную ветшать. Сам разум иной природы: он расцветает и приходит в упадок, познаёт и пребывает в неведении, вспоминает и забывает. Богу такая изменчивость не свойственна.
Я искал Бога в вещах видимых, материальных, но не нашёл; я искал Его в себе, но ничего не вышло. Тогда я понял, что Бог выше моей души. Чтобы дотянуться до Него, я думал обо всём этом и изливал душу свою. Если моя душа не изольётся, не поднимется