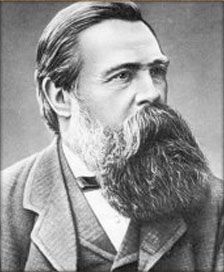иллюзией – с богом. Святой Бруно, который добывает себе хлеб теологией, в своей «тяжкой жизненной борьбе» против субстанции делает pro aris et focis[224] ту же самую попытку – в качестве теолога выйти за пределы теологии. Его «субстанция» есть не что иное, как предикаты бога, соединенные под одним именем; за исключением наименования «личность», которое он оставляет за собой, – это те предикаты бога, которые представляют собой опять-таки не что иное, как заоблачные названия представлений людей о своих определенных эмпирических отношениях, – представлений, за которые они лицемерно впоследствии цепляются в силу практических оснований. При помощи унаследованного от Гегеля теоретического вооружения эмпирическое, материальное поведение этих людей, конечно, нельзя даже и понять. Благодаря тому, что Фейербах разоблачил религиозный мир как иллюзию земного мира, который у самого Фейербаха фигурирует еще только как фраза, перед немецкой теорией встал сам собой вопрос, у Фейербаха оставшийся без ответа: как случилось, что люди «вбили себе в голову» эти иллюзии? Этот вопрос даже для немецких теоретиков проложил путь к материалистическому воззрению на мир, мировоззрению, которое вовсе не обходится без предпосылок, а эмпирически изучает как раз действительные материальные предпосылки как таковые и потому является впервые действительно критическим воззрением на мир. Этот путь был намечен уже в «Deutsch-Franzosische Jahrbucher» – во «Введении к критике гегелевской философии права» и в статье «К еврейскому вопросу». Но так как это было облечено тогда еще в философскую фразеологию, то попадающиеся там по традиции философские выражения – как «человеческая сущность», «род» и т.п. – дали немецким теоретикам желанный повод к тому, чтобы неверно понять действительный ход мыслей и вообразить, будто и здесь опять все дело только в новой перелицовке их истасканных теоретических сюртуков; вообразил же тогда Dottore Graziano немецкой философии, доктор Арнольд Руге, что он и дальше сможет по-прежнему неуклюже размахивать руками и щеголять своей педантски-шутовской маской. Нужно «оставить философию в стороне» (Виганд, стр. 187, ср. Гесс, «Последние философы», стр. 8), нужно выпрыгнуть из нее и в качестве обыкновенного человека взяться за изучение действительности. Для этого и в литературе имеется огромный материал, не известный, конечно, философам. Когда после этого снова очутишься лицом к лицу с людьми вроде Круммахера или «Штирнера», то находишь, что они давным-давно остались «позади», на низшей ступени. Философия и изучение действительного мира относятся друг к другу, как онанизм и половая любовь. Святой Санчо, который вопреки отсутствию у него мыслей – чтo мы констатировали терпеливо, а он весьма патетически – все же остается в пределах мира чистых мыслей, может спастись от этого мира, конечно, только посредством морального постулата, постулата «отсутствия мыслей» (стр. 196 «Книги»). Он – бюргер, который спасается от торговли посредством banqueroute cochonne{201}, в силу чего он, конечно, становится не пролетарием, а несостоятельным и обанкротившимся бюргером. Штирнер становится не человеком практической жизни, а лишенным мыслей, обанкротившимся философом.
Перешедшие от Фейербаха предикаты бога, в качестве господствующих над людьми действительных сил, в качестве иерархов, – вот тот подсунутый вместо эмпирического мира уродец-оборотень, которого и находит «Штирнер». До такой степени вся его «особенность» покоится только на том, чтo ему «внушено». Если «Штирнер» (см. также стр. 63) бросает Фейербаху упрек в том, что результат, к которому Фейербах приходит, – ничто, потому что Фейербах превращает предикат в субъект и наоборот, то сам он еще гораздо меньше способен прийти к чему-нибудь, – ибо эти фейербаховские предикаты, превращенные в субъекты, он свято принимает за действительные личности, господствующие над миром, эти фразы об отношениях он покорно принимает за действительные отношения, награждая их предикатом «святые», превращая этот предикат в субъект, в «Святое», т.е. делая совершенно то же, чтo сам ставит в упрек Фейербаху. И вот, после того как он совершенно избавился таким путем от того определенного содержания, о котором шла речь, он открывает свою борьбу, т.е. дает волю своей «ненависти» против этого «Святого», которое, конечно, остается всегда тем же самым. У Фейербаха – за что святой Макс его упрекает – есть еще сознание того, «что у него речь идет только „об уничтожении некоторой иллюзии“» (стр. 77 «Книги»), хотя Фейербах придает борьбе против этой иллюзии все еще слишком большое значение. У «Штирнера» и это сознание «все вышло», он действительно верит в то, что абстрактные мысли идеологии господствуют в современном мире, он уверен, что в своей борьбе против «предикатов», против понятий, он нападает уже не на иллюзию, а на действительные силы, властвующие над миром. Отсюда – его манера ставить все на голову, отсюда – то безмерное легковерие, с каким он принимает за чистую монету все ханжеские иллюзии, все лицемерные заверения буржуазии. Как мало, впрочем, «куколка» составляет «подлинное ядро» «мишуры» и как сильно хромает это красивое сравнение, лучше всего видно на «куколке» самого «Штирнера» – на его «Книге», в которой нет никакого, ни «подлинного», ни «неподлинного» «ядра» и где даже то немногое, что имеется еще на ее 491 странице, едва ли заслуживает даже названия «мишуры». – Но если уж непременно нужно найти в ней какое-нибудь «ядро», то это ядро есть немецкий мелкий буржуа.
Откуда, впрочем, взялась ненависть святого Макса к «предикатам», об этом крайне наивные разъяснения дает он сам в «Апологетическом комментарии». Он приводит следующее место из «Сущности христианства» (стр. 31): «Истинный атеист лишь тот, для кого предикаты божественной сущности, как например любовь, мудрость, справедливость – ничто, но не тот, для кого только субъект этих предикатов ничто», и затем восклицает с торжествующим видом: «Разве не имеется все это у Штирнера?» – «Здесь мудрость». Святой Макс нашел в приведенном только что месте намек, как добиться того, чтобы оказаться «дальше всех». Он верит Фейербаху, что вышеприведенное место раскрывает «сущность» «истинного атеиста», и принимает от него «задачу» сделаться «истинным атеистом». «Единственный», это – «истинный атеист».
Еще более легковерно, чем по отношению к Фейербаху, «орудует» он по отношению к святому Бруно или к «Критике». Мы постепенно увидим, как он всячески поддается тому, что навязывает ему «Критика», как он ставит себя под ее полицейский надзор, как своими внушениями она поучает его относительно его жизни, его «призвания». Пока же достаточно привести образчик его веры в Критику – указать на то, что на стр. 186 он изображает «Критику» и «Массу» как два лица, которые борются друг против друга и «стараются освободиться от эгоизма», а на стр. 187 он обеих «принимает за то, за что они… выдают себя».
Борьбой против гуманного либерализма заканчивается долгая борьба Ветхого завета, когда человек был наставником, ведущим к Единственному; времена исполнились, и евангелие благодати и радости нисходит на грешное человечество.
— — —
Борьба за «Человека» есть исполнение слова, написанного у Сервантеса в двадцать первой главе, «в которой рассказывается о великом приключении, о завоевании драгоценного шлема Мамбрина». Наш Санчо, который во всем подражает своему бывшему господину и нынешнему слуге, «поклялся завоевать для себя шлем Мамбрина» – Человека. После предпринимавшихся им во время его различных «походов»[225] тщетных попыток найти желанный шлем у Древних и Новых, у либералов и коммунистов, «он увидел вдали всадника, на голове которого что-то сверкало как золото». И вот он говорит Дон Кихоту-Шелиге: «Если я не ошибаюсь, навстречу нам едет человек, у которого на голове шлем Мамбрина, тот самый шлем, который, как ты знаешь, Я поклялся раздобыть». «Будьте, ваша милость, осторожны в словах своих и еще больше в своих поступках», – отвечает поумневший за это время Дон Кихот. – «Скажи мне, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник верхом на серой в яблоках лошади и что на голове у него золотой шлем?» – «Я вижу и примечаю, – отвечает Дон Кихот, – что едет какой-то человек на осле такой же серой масти, как и ваш, а на голове у всадника что-то блестящее». – «Но ведь это и есть шлем Мамбрина», – говорит Санчо.
Тем временем к ним тихой рысцой подъезжает святой цирюльник Бруно на своем ослике, Критике, а на голове у Бруно – цирюльничий таз; святой Санчо устремляется на него с копьем в руке, святой Бруно соскакивает со своего осла, роняет таз на землю (почему здесь, на соборе, мы и видели его без этого таза) и бросается в кусты, «ибо он есть воплощенный Критик». Святой Санчо поднимает с великой радостью шлем Мамбрина, и на замечание Дон Кихота, что он точь-в-точь похож на цирюльничий таз, отвечает: «тот знаменитый волшебный шлем, обернувшийся „призраком“, несомненно побывал в руках человека, который не мог оценить его по достоинству, и вот он расплавил половину его, а из другой половины смастерил то, чтo, по твоим словам, тебе представляется цирюльничьим тазом; впрочем, каким бы он ни казался непосвященному глазу, для меня, который знает ему цену, это безразлично».
«Второе великолепие, вторая собственность теперь приобретена!»
И вот завоевав, наконец, свой шлем, – «Человека», – он восстает против него, начинает относиться к нему как к своему «непримиримейшему врагу» и прямо заявляет ему (почему, мы увидим после), что Он (святой Санчо) – не «Человек», а «Нечеловек, Бесчеловечное». В качестве этого «Бесчеловечного» он удаляется в Сьерра-Морену, чтобы путем покаяний подготовиться к великолепию Нового завета. Он раздевается там «донага» (стр. 184), чтобы достигнуть своей особенности и перещеголять то, что делает его предшественник у Сервантеса в двадцать пятой главе: «И поспешно сняв с себя штаны, он остался полуголым в рубашке и, не задумываясь, сделал два козлиных прыжка в воздухе головой вниз и ногами вверх, раскрыв при этом такие вещи, которые заставили его верного оруженосца повернуть Росинанта, чтобы не видеть их». «Бесчеловечное» далеко превзошло свой мирской прообраз. Оно «решительно поворачивается спиной к самому себе, отвернувшись тем самым и от беспокоящего его критика» и «оставив его в стороне». «Бесчеловечное» пускается затем в спор с «оставленной в стороне» Критикой, «презирает само себя», «мыслит себя через сравнение с другим», «повелевает богом», «ищет свое лучшее Я вне себя», кается в том, что оно еще не было единственным, объявляет себя Единственным, «эгоистичным и Единственным», – хотя едва ли ему нужно было заявлять об этом после того, как оно мужественно повернулось спиной к самому себе. Все это сделало «Бесчеловечное» собственными силами (смотри Пфистер, «История немцев»){202}, и вот теперь оно на своем ослике, просветленное и торжествующее, въезжает в царство Единственного.
Конец Ветхого завета.
{203}
1. Экономия Нового завета
Если в Ветхом завете предметом назидания была для нас «единственная» логика,