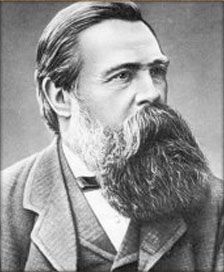от них» (чтo несомненно очень мудро) «и обмениваю их на другие» (при том, разумеется, условии, если кто-либо окажется настолько плохим дельцом, чтобы согласиться на подобный обмен[342] мыслями), «которые и становятся Моей новой, купленной собственностью» (стр. 339).
Наш честный бюргер не успокаивается до тех пор, пока не будет написано черным по белому, что он честно купил свою собственность. – Вот оно – утешение берлинского бюргера при всех его государственных бедствиях и полицейских напастях: «Мысли не подлежат пошлине!»{268}
Превращение частной собственности в государственную сводится, в конце концов, к представлению, будто буржуа владеет только в качестве экземпляра, принадлежащего к роду буржуа, – роду, который в своей совокупности называется-де государством и наделяет собственностью отдельных индивидов на правах лена. Здесь опять все поставлено на голову. В буржуазном классе, как и во всяком другом, совместными и всеобщими условиями становятся только развившиеся личные условия, при которых владеет и живет каждый отдельный член класса. Если прежде подобные философские иллюзии могли еще иметь хождение в Германии, то теперь, когда мировая торговля достаточно ясно показала, что буржуазная нажива нисколько не зависит от политики, но зато политика всецело зависит от буржуазной наживы, – теперь подобные иллюзии стали совершенно смехотворны. Уже в XVIII веке политика настолько зависела от торговли, что когда, например, французское государство захотело заключить заем, то ручательство за него голландцам должно было дать частное лицо.
Что «обесценение Меня» или «пауперизм» есть «реализация ценности» или «существование» «государства» (стр. 336), это – одно из 1001 штирнеровских уравнений, о котором мы упоминаем здесь лишь потому, что в связи с ним мы узнаем кое-что новое о пауперизме.
«Пауперизм, это – обесценение Меня, он проявляется в том, что Я не могу реализовать Себя как ценность. Поэтому государство и пауперизм – одно и то же… Государство всегда старается извлечь пользу из Меня, т.е. эксплуатировать Меня, утилизировать, использовать, хотя бы это использование состояло только в том, что я забочусь о proles[343] (пролетариате). Оно хочет, чтобы я был его креатурой» (стр. 336).
Не говоря уже о том, что здесь обнаруживается, как мало от него зависит реализовать свою ценность, хотя он всюду и везде может сохранить свою особенность; не говоря о том, что здесь опять-таки, в противоположность прежним утверждениям, совершенно обособлены друг от друга сущность и явление, – тут снова повторяется приведенное выше мелкобуржуазное мнение нашего простака, будто «государство» хочет эксплуатировать его. Интересно также, что древнеримское этимологическое происхождение слова «пролетариат» наивно протаскивается здесь в современное государство. Неужели святой Санчо действительно не знает, что повсюду, где развилось современное государство, «забота о proles» является для государства, т.е. для официальных буржуа, самой неприятной формой деятельности пролетариата? Не посоветовать ли ему перевести для собственного поучения на немецкий язык Мальтуса и министра Дюшателя?{269} Святой Санчо, как немецкий мелкий буржуа, «чувствовал» «все отчетливее», что «в противовес государству у него еще оставалась великая сила», именно – сила создавать себе мысли назло государству. Если бы он был английским пролетарием, он почувствовал бы, что у него «оставалась сила» производить назло государству детей.
И снова иеремиады против государства! И снова теория пауперизма! В качестве «Я» он «создает» сперва «мукy, полотно или железо и уголь», тем самым уничтожая, одним махом, разделение труда. Затем он начинает «пространно» «жаловаться» на то, что его труд не оплачивается по своей стоимости, и прежде всего вступает в конфликт с теми, кто оплачивает труд. Затем на сцену появляется государство в роли «умиротворителя».
«Если Я не довольствуюсь ценой, которую оно» (т.е. государство) «устанавливает на мой товар и труд, если Я сам стремлюсь установить цену Своего товара, стремлюсь сам к тому, чтобы эта цена была Мне выплачена, то Я вступаю в конфликт прежде всего» (великое «Прежде всего»! – не с государством, а только) «с покупателями товара» (стр. 337).
А когда он хочет войти в «прямые сношения» с этими покупателями, т.е. «схватить их за глотку», государство тотчас же «вмешивается», «отрывая человека от человека» (хотя дело шло не о «человеке вообще», а о рабочем и работодателе или же – чтo он постоянно смешивает – о покупателе и продавце товаров); и притом государство делает это с коварным умыслом – «встать посредине в качестве духа» (разумеется, святого духа).
«С рабочими, желающими получить бoльшую плату, обращаются, как с преступниками, лишь только они пожелают вырвать ее» (стр. 337).
Здесь перед нами снова целый букет бессмыслиц. Господин Сениор мог бы не писать своих писем о заработной плате{270}, если бы он предварительно завязал «прямые сношения» со Штирнером, тем более, что в этом случае государство, конечно, не «оторвало бы человека от человека». Санчо заставляет здесь государство выступать трижды – сперва в роли «умиротворителя», затем в качестве фактора, определяющего цену, наконец в виде «духа», в виде Святого. То, что святой Санчо после достославного отождествления частной и государственной собственности заставляет государство определять также и заработную плату, – это свидетельствует столько же о его замечательной последовательности, сколько о полном незнакомстве с делами мира сего. То, что «с рабочими, которые хотят вырвать более высокую заработную плату», в Англии, Америке и Бельгии вовсе не обращаются непременно как с «преступниками» и что, наоборот, они довольно часто этой более высокой платы добиваются на деле, – это опять-таки не известный нашему святому факт, благодаря чему вся его легенда о заработной плате идет насмарку. То, что рабочие, даже если бы государство не «встало посредине», ничего бы не добились, «схватив за глотку» своих работодателей, во всяком случае добились бы гораздо меньшего, чем путем ассоциаций и забастовок, – разумеется, пока они остаются рабочими, а их противники капиталистами, – это тоже факт, который можно было наблюдать даже в Берлине. Точно так же не нуждается в доказательстве и то, что основанное на конкуренции буржуазное общество и его буржуазное государство в силу всей своей материальной основы не могут допустить между гражданами никакой иной борьбы кроме конкуренции, а как только люди начинают «хватать друг друга за глотку», общество и государство выступают не в виде «духа», а вооруженные штыками.
Впрочем, домысел Штирнера, что обогащение индивидов на основе буржуазной частной собственности означает только обогащение государства или что до сих пор всякая частная собственность была государственной собственностью, – этот домысел опять-таки ставит исторические отношения на голову. С развитием и накоплением буржуазной собственности, т.е. с развитием торговли и промышленности, отдельные лица все более богатели, государство же все более впадало в задолженность. Этот факт обнаружился уже в первых итальянских торговых республиках, затем проявился наиболее ярко, начиная с прошлого столетия, в Голландии, где биржевой спекулянт Пинто обратил внимание на данное явление еще в 1750 г.{271}, а теперь этот факт снова наблюдается в Англии. Поэтому-то мы и видим, что как только буржуазия накопит денег, – государство оказывается вынужденным выклянчивать их у буржуазии, а под конец оно и просто покупается ею. И это происходит в тот период, когда буржуазии противостоит еще другой класс, и государство может, следовательно, сохранить видимость некоторой самостоятельности по отношению к каждому из них. Даже продавшись, государство все еще нуждается в деньгах и поэтому продолжает зависеть от буржуа, но зато оно может, когда этого требуют интересы буржуазии, получить в свое распоряжение бoльшие средства, чем другие, менее развитые и поэтому менее обремененные долгами государства. Однако даже самые неразвитые государства Европы, члены Священного союза, неотвратимо идут навстречу этой судьбе и будут скуплены буржуазией с аукциона; и тогда Штирнер сможет их утешить ссылкой на тождество частной и государственной собственности; особенно он сможет утешить этим своего собственного суверена, который тщетно пытается отодвинуть час продажи государственной власти в такой мере «испортившимся» «бюргерам».
Теперь мы переходим к вопросу об отношении между частной собственностью и правом, где нам опять преподносится в другой форме та же самая дребедень. Тождество государственной и частной собственности получает здесь как будто новый оборот. Политическое признание частной собственности в законодательстве рассматривается как основа частной собственности.
«Частная собственность живет милостью права. Только в праве она имеет свою гарантию, – ведь владение не есть еще собственность; оно становится Моим только с согласия права; это – не факт, а фикция, мысль. Это – собственность в силу права, правовая собственность, гарантированная собственность; она – Моя не благодаря Мне, а благодаря – праву» (стр. 332).
В этой фразе приведенная уже выше бессмыслица о государственной собственности достигает еще большей высоты комизма. Перейдем поэтому сразу к тому, как Санчо эксплуатирует фиктивное jus utendi et abutendi[344].
На стр. 332 мы узнаем, кроме вышеприведенной прекрасной сентенции, что собственность «есть неограниченная власть над каким-либо объектом, которым Я могу располагать, как мне заблагорассудится». Но «власть» не есть «нечто существующее само по себе, а существует она только во властном Я, во Мне, наделенном властью» (стр. 366). Поэтому собственность не есть «вещь», не есть «это дерево; Моя власть над ним, Мое распоряжение им – это и есть Мое» (стр. 366). Он знает только «вещи» и «Я». «Отделенная от Я», получившая самостоятельное существование, превращенная в «призрак» «власть есть право». «Эта увековеченная власть» (рассуждение о наследственном праве) «не угасает даже с Моей смертью, но, передается или наследуется. Вещи в действительности принадлежат не Мне, а праву. С другой стороны, это не больше, чем простой мираж, ибо власть отдельного индивида становится постоянной, становится правом лишь потому, что другие индивиды соединяют свою власть с его властью. Иллюзия заключается в том, что они полагают, будто не могут взять обратно свою власть» (стр. 366, 367). «Собака видит кость во власти другой собаки и просто отступает, если чувствует себя слишком слабой. Человек же уважает право другого человека на его кость… И как здесь, так и вообще „человеческим“ называют такое отношение к вещам, когда во всем видят нечто духовное, в данном случае – право, т.е. когда все превращают в призрак и относятся к нему как к призраку… Человеку свойственно рассматривать единичное не как единичное, а как всеобщее» (стр. 368, 369).
Таким образом, все злоключения проистекают опять-таки из веры индивидов в понятие права, которое они должны выбить из своей головы. Святой Санчо знает лишь «вещи» и «Я», обо всем же, что не подходит под эти рубрики, обо всех отношениях, он имеет лишь абстрактные понятия, которые поэтому тоже превращаются для него в «призраки». «С другой стороны», он, правда, смутно чувствует подчас, что все это – «простой мираж» и что «власть отдельного индивида» весьма зависит от того, соединяют ли с ней