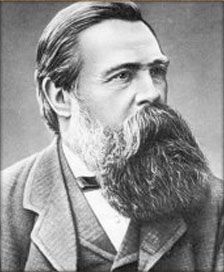социальных системах. В эпоху буржуазии занимались вопросами государственного строя, «подобно тому как» в наше время были разработаны различные социальные системы. Такова связь мыслей в вышеприведенном предложении.
Уже из того, что нами было сказано выше против Фейербаха, следует, что прошлые революции, протекавшие в условиях разделения труда, должны были приводить к новым политическим учреждениям; оттуда же следует, что коммунистическая революция, уничтожающая разделение труда, в конечном итоге устраняет политические учреждения[369]; и оттуда же, наконец, вытекает, что коммунистическая революция будет сообразовываться не с «общественными учреждениями, созданными изобретательностью социальных талантов», а с производительными силами.
Но «быть свободным от всякого государственного строя – вот к чему стремится бунтовщик!». «Прирожденный свободный», заранее свободный от всего, – он стремится в конце времен освободиться от государственного строя.
Надо еще заметить, что возникновению санчевского «бунта» содействовали всякого рода прежние иллюзии нашего простака, между прочим, и вера, будто индивиды, совершающие революцию, связаны какими-то идеальными узами и будто, «поднимая щит», они ограничиваются тем, что поднимают на щит новое понятие, навязчивую идею, призрак, привидение – «Святое». Санчо заставляет их выбить из своей головы эту идеальную связь, благодаря чему в его представлении революционеры превращаются в какую-то беспорядочную банду, которая может еще только «бунтовать». К тому же он слышал, что конкуренция есть война всех против всех{281}, и положение это, в смешении с его лишенной святости революцией, образует главный фактор его «бунта».
«Подыскивая, для большей ясности, сравнение, Я, вопреки ожиданию, вспоминаю об основании христианства» (стр. 423). «Христос, – узнаем мы здесь, – был не революционером, а восставшим бунтовщиком. Поэтому для него было важно только одно: „будьте мудры, как змии“» (там же).
Для полного удовлетворения «ожидания» Санчо и для оправдания его «только», не должно было бы существовать второй половины приведенного сейчас евангельского изречения (Евангелие от Матфея, 10, 16): «и кротки, как голуби». Христос должен здесь вторично фигурировать в качестве исторического лица для того, чтобы разыгрывать ту же роль, какую играли выше монголы и негры. И опять-таки неизвестно, должен ли Христос служить пояснением к бунту или же бунт – пояснением к Христу. Христианско-германское легковерие нашего святого концентрируется в утверждении, что Христос «иссушил источники жизни всего языческого мира, с которыми, впрочем, и без того» (следовало бы сказать: и без него)[370] «должно было увянуть существующее государство» (стр. 424). – Увядший цветок поповского красноречия! Смотри выше о «Древних». Впрочем, credo ut intelligam[371], или же – все это для того, чтобы Я отыскал, «для большей ясности, сравнение».
Мы уже видели на бесчисленных примерах, что нашему святому повсюду приходит в голову только священная история, и притом в таких именно местах, где она появляется «вопреки ожиданию» не Штирнера, а лишь читателя. «Вопреки ожиданию» она приходит ему в голову даже в «Комментарии», где Санчо на стр. 154 заставляет «иудейских рецензентов» в старом Иерусалиме, – в противоположность христианскому определению: бог есть любовь, – воскликнуть: «Вы видите, что христиане проповедуют веру в языческого бога; ибо, если бог есть любовь, то он – бог Amor, бог любви!» – Но «вопреки ожиданию» Новый завет написан по-гречески, и «христианское определение» гласит: ? ???? ????? ?????[372] (Первое послание Иоанна, 4, 16), тогда как «бог Amor, бог любви», называется ????. Санчо должен поэтому еще объяснить, как это «иудейские рецензенты» сумели совершить превращение ????? в ????. В этом месте «Комментария» Христос – опять-таки «для большей ясности» – сравнивается с Санчо, причем надо признать, что оба поразительно похожи друг на друга, оба являются «существами во плоти», и, по крайней мере, радующийся наследник верит, что оба они существуют и, resp., являются единственными. Что Санчо есть современный Христос – к этой «навязчивой идее» «устремлена» вся его историческая конструкция.
Философия бунта, преподнесенная нам только что в виде плохих антитез и увядших цветов красноречия, есть в последнем счете фанфаронская апология хозяйничания парвеню (парвеню – выскочка, тот, кто пробрался наверх, бунтовщик[373]). Каждому бунтовщику противостоит в его «эгоистическом деянии» особая действительность, над которой он стремится подняться, не считаясь с общими отношениями. Он стремится избавиться от существующего лишь постольку, поскольку оно является для него помехой, в остальном же, наоборот, он стремится скорее присвоить его себе. Ткач, «поднявшийся» до фабриканта, избавляется благодаря этому от своего станка и покидает его; в остальном же все идет своим порядком, и наш «удачливый» бунтовщик предъявляет другим только лицемерное моральное требование стать такими же выскочками, как он сам[374]. Таким образом, все воинственные декламации Штирнера сводятся в конечном счете к моральным нравоучениям из басен Геллерта и к спекулятивному истолкованию бюргерского убожества.
Мы видели до сих пор, что бунт есть все что угодно, но только не деяние. На стр. 342 мы узнали, что «метод захвата вовсе не заслуживает презрения, но выражает чистое деяние согласного с собой эгоиста». Собственно, следовало бы сказать: согласных друг с другом эгоистов, так как, в противном случае, захват сводится к нецивилизованному «способу» воров или к цивилизованному «способу» буржуа, и в первом случае он не имеет успеха, а во втором вовсе не есть «бунт». Следует заметить, что согласному с собой эгоисту, который ничего не делает, соответствует здесь «чистое» деяние, т.е. такое деяние, которого только и можно было ожидать от столь бездеятельного индивида.
Мимоходом мы узнаем, чем был создан плебс, и мы можем быть заранее уверены, что он создан «догматом» и верой в этот догмат, в Святое, фигурирующее здесь для разнообразия в виде греховного сознания:
«Только верой, что захват есть грех, преступление, только этим догматом создается плебс… виновно только старое греховное сознание» (стр. 342).
Вера, что сознание во всем виновно, это – его догмат, делающий из него бунтовщика, а из плебса – грешника.
В противоположность этому греховному сознанию эгоист поощряет себя, resp. и плебс, – на захват следующим образом:
«Я говорю Себе: то, на что простирается моя власть, есть моя собственность, и Я должен признать своей собственностью все, для достижения чего Я чувствую Себя достаточно сильным, и т.д.» (стр. 340).
Итак, святой Санчо говорит себе, что он хочет себе кое-что сказать, призывает себя к обладанию тем, чем он обладает, и формулирует свое действительное отношение как отношение власти – парафраза, составляющая вообще тайну всех его фанфаронад. (Смотри «Логику»[375].) Затем он, – который каждое мгновенье есть то, чем он может быть, и, следовательно, имеет то, что может иметь, отличает свою реализованную, действительную собственность, относимую им в счет капиталов, от своей возможной собственности, своего нереализованного «чувства силы», которое он записывает в свой счет прибылей и убытков. Это – настоящий вклад в науку о бухгалтерии собственности в необыкновенном смысле.
Что собственно означает это торжественное «говорить», Санчо выбалтывает в одном приведенном уже месте:
«Если Я говорю Себе… то это в сущности – пустая болтовня».
Он продолжает там:
«Эгоизм» говорит «неимущему плебсу», чтобы «истребить» его: «Хватай и бери, что Тебе нужно!» (стр. 341).
Насколько «пуста» эта «болтовня», сразу видно из следующего примера:
«В богатстве банкира Я так же не усматриваю нечто чуждое, как Наполеон – в землях королей. Мы» («Я» превращается внезапно в «Мы»), «совершенно не боимся завоевать это богатство и уже ищем необходимых для этого средств. Таким образом, мы освобождаем его от духа чуждости, внушавшего Нам страх» (стр. 369).
Сколь мало Санчо «освободил» богатство банкира от «духа чуждости», видно из благонамеренного совета, который он дает плебсу – «завоевать» это богатство путем захвата. «Пусть он совершит захват и посмотрит, чтo у него останется в руках!» Останется не богатство банкира, а ненужная бумага, «труп» этого богатства, который точно так же не есть уже богатство, «как мертвая собака – уже не собака». Богатство банкира является богатством только в рамках существующих отношений производства и общения и может быть «завоевано» только в условиях этих отношений и с помощью средств, имеющих силу в рамках данных условий. А если бы Санчо попробовал обратиться к другим видам богатства, то он убедился бы, что и здесь дело обстоит не лучше. Таким образом, «чистое деяние согласного с собой эгоиста» сводится в конце концов к весьма грязному недоразумению. «Вот куда может завести призрак» Святого.
Сказав себе то, что он хотел себе сказать, Санчо заставляет взбунтовавшийся плебс сказать то, что он ему подсказал. Дело в том, что Санчо приготовил на случай бунта воззвание с практическим наставлением к нему, которое должно иметься во всех деревенских харчевнях и должно распространяться среди сельского населения. Воззвание это притязает на место в «Der hinkende Bote»{282} и в герцогско-нассауском сельском календаре. Пока что tendances incendiaires[376] Санчо не идут дальше деревни, они ограничиваются пропагандой среди батраков и скотниц, но не касаются городов, чтo лишний раз доказывает, как успешно он «освободил» крупную индустрию от «духа чуждости». Но как бы то ни было, мы приведем здесь возможно более подробно этот лежащий перед нами документ, который не должен быть утрачен, чтобы, «поскольку это зависит от Нас, содействовать распространению вполне заслуженной славы». (Виганд, стр. 191.)
Воззвание напечатано на стр. 358 и сл. и начинается следующими словами:
«Чем же обеспечена Ваша собственность, Вы – привилегированные?.. Тем, что Мы воздерживаемся от нападения, значит, она обеспечена нашей защитой… тем, что Вы учиняете над Нами насилие».
Сперва тем, что мы воздерживаемся от нападения, т.е. что мы учиняем насилие над самими собой, а потом тем, что Вы учиняете насилие над Нами. Cela va a merveille![377] Пойдем дальше.
«Если Вы хотите нашего уважения, то купите его за приемлемую для Нас цену… Мы требуем только оценки по достоинству».
Сперва «бунтовщики» хотят продать свое уважение за «приемлемую для них» цену, а потом они объявляют «оценку по достоинству» критерием цены. Сперва – произвольная цена, а потом – цена, определяемая независимо от произвола законами торговли, издержками производства и отношением между спросом и предложением.
«Мы согласны оставить Вам Вашу собственность, если Вы только надлежащим образом компенсируете это оставление… Вы станете кричать о насилии, как только мы протянем руку… Без насилия Мы их» (т.е. устриц, которыми наслаждаются привилегированные) «не получим»… «Мы ничего не собираемся отнимать у Вас, ровным счетом ничего».
Сперва мы «оставляем» это Вам, потом мы отнимаем это у Вас и должны применить «насилие», а под конец мы предпочитаем ничего у Вас не брать. Мы оставляем это Вам в том случае, когда Вы сами от этого отказываетесь; в минуту просветления, в такую единственную для нас минуту, Мы, правда, замечаем, что это «оставление» есть «протягивание руки» и применение «насилия», но в конце концов нас все-таки нельзя будет упрекнуть, что мы кое-что «берем» у Вас. И на