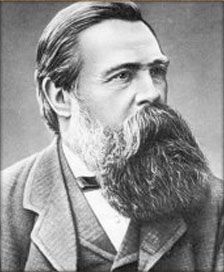о господстве Святого. Возможным является для него все то, что какой-нибудь школьный наставник может вбить себе в голову насчет меня, – причем для Санчо, конечно, не представляет труда доказать, что эта возможность не имеет иной действительности, кроме как в его голове. – Торжественное утверждение Санчо, что «за словом возможный скрывалось чреватое столь глубокими последствиями недоразумение тысячелетий» (стр. 441), доказывает достаточно убедительно, что он никак не может скрыть за словами те последствия, которые вытекают из его столь глубоких недоразумений насчет тысячелетий.
Это рассуждение о «совпадении возможности и действительности» (стр. 439), о том, чем люди в состоянии быть, и о том, чтo они есть, рассуждение, столь хорошо гармонирующее с его прежними настойчивыми увещаниями осуществить все, что человек в состоянии сделать, и т.д., приводит его, однако, к некоторым отступлениям насчет материалистической теории обстоятельств, которую мы сейчас обсудим подробнее. Но предварительно приведем еще один пример его идеологического извращения. На стр. 428 он отождествляет вопрос: «как можно обеспечить себе жизнь», с вопросом: «как создать в себе истинное Я» (или же «жизнь»). Согласно той же самой странице, вместе с его новой моральной философией прекращается «страх за жизнь» и начинается «прожигание» ее. Сколь чудотворна сила этой его якобы новой моральной философии, – наш Соломон изрекает еще «красноречивее» в следующем изречении:
«Считай Себя более могущественным, чем признают Тебя другие, и Ты будешь могущественней; больше Себя цени, и Ты будешь иметь больше» (стр. 483).
Смотри выше, в разделе о «Союзе», способ Санчо добывать себе собственность[412].
Перейдем теперь к его теории обстоятельств.
«У человека нет призвания, а имеются только силы, которые и обнаруживаются там, где они имеются, – ибо их бытие ведь и заключается только в их обнаружении – и которые, подобно самой жизни, не могут пребывать в бездеятельности… Каждый употребляет в каждое мгновение столько силы, сколько он ее имеет» («реализуйте Свою ценность, подражайте смелым, пусть каждый из Вас будет всемогущим Я» и т.д., – говорил выше Санчо)… «Разумеется, силы можно укрепить и умножить, особенно при наличии вражеского отпора или дружеского содействия, но там, где не видно их применения, можно быть уверенным в их отсутствии. Можно из камня высечь огонь, но без удара – огня не будет; точно так же и человек нуждается в толчке. Поэтому веление употреблять свои силы было бы лишним и бессмысленным, ибо силы всегда деятельны уже сами по себе… Сила, это – лишь более простое обозначение для проявления силы» (стр. 436, 437).
«Согласный с собой эгоизм», по произволу приводящий в действие или оставляющий в бездействии свои силы или способности, применяющий к ним jus utendi et abutendi[413], здесь вдруг совершенно неожиданно летит кувырком. Оказывается, что силы, раз они имеются налицо, действуют самостоятельно, не заботясь о «произволе» Санчо; они действуют подобно химическим или механическим силам, независимо от обладающего ими индивида. Мы узнаем далее, что никакой силы нет, если нельзя заметить ее проявления; причем тут же вводится поправка, что сила для своего проявления нуждается в толчке. Но как будет Санчо решать, чего именно не хватает при отсутствии проявления силы: толчка ли или самой силы, – этого мы не узнаем. Зато наш единственный естествоиспытатель поучает нас, что «можно высечь из камня огонь», – пример, неудачней которого, как это всегда бывает с Санчо, нельзя и придумать. Санчо полагает, подобно простоватому наставнику сельской школы, что если он высекает огонь, то последний получается из камня, где он находился до того в скрытом виде. Но любой четвероклассник сумеет объяснить ему, что при этом способе добывания огня путем трения стали и камня, способе, давно забытом во всех цивилизованных странах, частички отделяются от стали, а не от камня, причем частички раскаляются именно благодаря этому трению; что, следовательно, «огонь», который для Санчо не является определенным, имеющим место при известной температуре, отношением известных тел к некоторым другим телам, в частности к кислороду, а является самостоятельной вещью, «элементом», навязчивой идеей, «Святым», – что этот огонь получается не из камня и не из стали. С таким же успехом Санчо мог бы сказать: из хлора получается беленое полотно, но если отсутствует «толчок», именно небеленое полотно, то «ничего не получается». По этому поводу мы, для «самонаслаждения» Санчо, отметим один факт, ранее происшедший в области «единственного» естествознания. В оде о преступлении можно прочесть:
«Не гремит ли гром раскатом дальним,
Ты не видишь ли молчанье неба,
Полное предчувствий мрачных?»
(«Книга», стр. 319).
Гром гремит, а небо молчит. Санчо знает, стало быть, какое-то другое место, кроме неба, откуда раздается гром. Санчо замечает, далее, молчание неба при помощи своего органа зрения – фокус, которого никто за ним не повторит. Или же Санчо слышит гром и видит молчание, причем оба эти явления происходят одновременно. – Мы видели, как у Санчо в том месте, где говорится о «привидении» горы представляли «дух возвышенности»[414]. Здесь молчаливое небо представляет у него дух предчувствия.
Впрочем, не ясно, почему тут Санчо так возмущается «велением употреблять свои силы». Ведь это веление может оказаться недостающим «толчком», тем «толчком», который, правда, не может воздействовать на камень, но действенность которого Санчо может наблюдать при учебных занятиях любого батальона. Что «веление» это является «толчком» даже для его слабых сил, это вытекает хотя бы уж из того, что оно оказывается для него «камнем преткновения»[415].
Сознание есть тоже сила, которая, согласно вышеизложенному учению, тоже «оказывается всегда сама по себе деятельной». В согласии с этим Санчо должен был бы стремиться не к тому, чтобы изменить сознание, а разве лишь к тому, чтобы изменить «толчок», действующий на сознание, – но тогда вся его книга оказалась бы написанной напрасно. Однако в данном случае он считает свои моральные проповеди и «веления» вполне достаточным «толчком».
«Чем каждый может стать, тем он и становится. Неблагоприятные обстоятельства могут помешать прирожденному поэту стоять на высоте эпохи и создавать великие творения, для которых совершенно необходима большая подготовка; но он будет сочинять стихи независимо от того, будет ли он батраком или же ему посчастливится жить при веймарском дворе. Прирожденный музыкант будет заниматься музыкой, безразлично, на всех ли инструментах» (эту фантазию о «всех инструментах» он нашел у Прудона. Смотри «Коммунизм») «или же только на пастушьей свирели» (нашему школьному наставнику тут, конечно, вспоминаются вергилиевские эклоги). «Прирожденный философский ум сможет проявить себя либо в качестве университетского философа, либо в качестве деревенского философа. Наконец, прирожденный глупец всегда останется тупицей. И надо сказать, что прирожденные ограниченные головы бесспорно образуют самый многочисленный класс людей. Да и почему бы в человеческом роде не быть тем же самым различиям, которые встречаются во всякой породе животных?» (стр. 434).
Санчо и на этот раз выбрал свой пример с обычной неловкостью. Если принять всю его бессмысленную болтовню о прирожденных поэтах, музыкантах, философах, то его пример доказывает, с одной стороны, лишь то, что прирожденный и т.д. остается тем, чтo он уже есть от рождения, – именно поэтом и т.д.; а с другой стороны, что прирожденный и т.д., поскольку он становится, развивается, может «в силу неблагоприятных обстоятельств» не стать тем, чем он мог бы стать. Таким образом, его пример, с одной стороны, не доказывает ровно ничего, а с другой – доказывает обратное тому, чтo следовало доказать; с обеих же сторон вместе, он доказывает, что Санчо от рождения или в силу обстоятельств принадлежит к «самому многочисленному классу людей». Зато он разделяет с этим классом и со своей «тупостью» то утешение, что он – единственный «тупица».
Санчо переживает здесь приключение с волшебным напитком, приготовленным Дон Кихотом из розмарина, вина, оливкового масла и соли; как рассказывает Сервантес в семнадцатой главе, Санчо, испив эту смесь, целых два часа подряд, в поте лица и с судорожными конвульсиями, извергал ее из обоих каналов своего тела. Материалистический напиток, выпитый нашим храбрым оруженосцем для своего самонаслаждения, очищает его от всего его эгоизма в необыкновенном смысле слова. Мы видели выше, что Санчо вдруг потерял всю свою торжественность, вспомнив о необходимости «толчка», и отказался от всех своих «способностей», как некогда египетские волшебники перед вшами Моисея{306}, теперь мы наблюдаем два новых приступа малодушия: он склоняется также и перед силой «неблагоприятных обстоятельств» и признает, наконец, даже свою первоначальную физическую организацию за нечто такое, чтo уродуется без всякого его содействия. Что же остается еще у нашего обанкротившегося эгоиста? Его прирожденная физическая организация не в его власти; «обстоятельства» и «толчок», под влиянием которых она развивается, не доступны его контролю; «таков, каков он есть каждое мгновение, он» – не «свое собственное творение», а нечто сотворенное взаимодействием между его природными задатками и влияющими на них обстоятельствами, – всего этого Санчо не оспаривает больше. Несчастный «творец»! Несчастнейшее «творение»!
Но самая страшная беда приходит напоследок. Санчо, не довольствуясь тем, что ему уже давно полностью отсчитаны tres mil azotes у trecientos en ambas sus valientes posaderas[416], сам наносит себе под конец еще один удар, и самый главный, провозгласив себя фанатиком рода. И каким еще фанатиком! Во-первых, он приписывает роду разделение труда, ибо делает его ответственным за то, что одни люди – поэты, другие – музыканты, третьи – школьные наставники; во-вторых, он приписывает роду существующие физические и интеллектуальные недостатки «самого многочисленного класса людей» и делает его ответственным за то, что при господстве буржуазии большинство индивидов подобны ему самому. Если придерживаться его взглядов на прирожденные ограниченные головы, то пришлось бы объяснять теперешнее распространение золотухи тем, что «род» находит особенное удовольствие в таком положении, когда прирожденные золотушные конституции составляют «самый многочисленный класс людей». Даже самые заурядные материалисты и медики освободились от подобных наивных взглядов задолго до того, как согласный с собой эгоист был «призван» «родом», «неблагоприятными обстоятельствами» и «толчком» дебютировать перед немецкой публикой. Как прежде Санчо объяснял всю изуродованность индивидов, и тем самым их отношений, навязчивыми идеями школьных наставников, не интересуясь тем, как возникли эти идеи, так теперь он объясняет эту изуродованность чисто физическим процессом рождения. Он совсем не задумывается над тем, что способность детей к развитию зависит от развития родителей и что вся эта изуродованность, имеющая место при существующих общественных отношениях, возникла исторически и точно так же историческим развитием может быть снова уничтожена. Даже естественно возникшие родовые различия, как, например, расовые и т.д., о которых Санчо ничего не говорит, могут и должны быть устранены историческим развитием. Санчо, который по данному поводу украдкой заглядывает в зоологию и при этом делает открытие, что