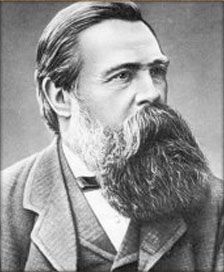уже выше показали, что уничтожение того порядка, при котором отношения обособляются и противостоят индивидам, при котором индивидуальность подчинена случайности, при котором личные отношения индивидов подчинены общим классовым отношениям и т.д., – что уничтожение этого порядка обусловливается в конечном счете уничтожением разделения труда. Мы показали также, что уничтожение разделения труда обусловливается развитием общения и производительных сил до такой универсальности, когда частная собственность и разделение труда становятся для них оковами. Мы показали далее, что частная собственность может быть уничтожена только при условии всестороннего развития индивидов, потому что наличные формы общения и производительные силы всесторонни, и только всесторонне развивающиеся индивиды могут их присвоить, т.е. превратить в свою свободную жизнедеятельность. Мы показали, что в настоящее время индивиды должны уничтожить частную собственность, потому что производительные силы и формы общения развились настолько, что стали при господстве частной собственности разрушительными силами и потому что противоположность между классами достигла своих крайних пределов. Наконец, мы показали, что уничтожение частной собственности и разделения труда есть вместе с тем объединение индивидов на созданной современными производительными силами и мировыми сношениями основе.
В пределах коммунистического общества – единственного общества, где самобытное и свободное развитие индивидов перестает быть фразой, – это развитие обусловливается именно связью индивидов, связью, заключающейся отчасти в экономических предпосылках, отчасти в необходимой солидарности свободного развития всех и, наконец, в универсальном характере деятельности индивидов на основе имеющихся производительных сил. Дело идет здесь, следовательно, об индивидах на определенной исторической ступени развития, а отнюдь не о любых случайных индивидах, не говоря уже о неизбежной коммунистической революции, которая сама есть общее условие их свободного развития. Сознание своих взаимоотношений также, конечно, станет у индивидов совершенно другим и не будет поэтому ни «принципом любви» или devouement[429], ни эгоизмом.
Таким образом, «единственность», – если понимать ее в смысле самобытного развития и индивидуального поведения, как об этом говорилось выше, – предполагает не только нечто совершенно иное, чем добрую волю и правильное сознание, но и нечто как раз противоположное фантазиям Санчо. У него она всегда – лишь прикрашивание существующих отношений, капелька целительного бальзама для бедной, бессильной души, погрязшей в убожестве окружающего.
С «несравнимостью» Санчо дело обстоит так же, как и с его «единственностью». Сам он, конечно, вспомнит, – если он еще не «растаял» окончательно в «сладостном самозабвении», – что организация труда в «штирнеровском союзе эгоистов» основывалась не только на сравнимости потребностей, но и на их равенстве. И он предполагает в «Союзе» не только равные потребности, но и равную деятельность, так что один индивид может заменить другого в «человеческой работе». А добавочное вознаграждение «Единственного», венчающее его усилия, – разве оно не основывалось как раз на том, что работа этого индивида сравнивалась с работой других индивидов и ввиду ее превосходства оплачивалась лучше? И вообще, как может Санчо говорить о несравнимости, раз он оставляет в силе деньги, – это практически обособившееся в самостоятельную силу сравнение, – раз он подчиняется им и, в целях сравнения с другими, измеряет себя этим универсальным масштабом? Совершенно очевидно, что он сам опровергает свое учение о несравнимости. Нет ничего легче, как назвать равенство и неравенство, сходство и несходство – рефлективными определениями. Несравнимость есть также рефлективное определение, имеющее своей предпосылкой деятельность сравнения. Но для доказательства того, что сравнение вовсе не есть чисто произвольное рефлективное определение, достаточно привести только один пример, именно – деньги, эту установившуюся tertium comparationis[430] всех людей и вещей.
Впрочем, несравнимость может иметь различные значения. Единственное значение, о котором здесь может идти речь, а именно «единственность» в смысле самобытности, предполагает, что деятельность несравнимого индивида в определенной сфере отличается от деятельности других индивидов той же самой сферы. Персиани – несравненная певица именно потому, что она – певица и что ее сравнивают с другими певицами, и это делают люди, которые в своей сравнительной оценке, опирающейся на нормальную организацию их ушей и на музыкальное образование, способны познать ее несравнимость. Пение Персиани не сравнимо с кваканием лягушки, хотя и здесь было бы возможно сравнение, но только как сравнение между человеком и лягушкой вообще, а не между Персиани и данной единственной лягушкой. Только в первом случае можно говорить о сравнении между индивидами, во втором же сравниваются только их видовые или родовые свойства. Третий вид несравнимости – несравнимость пения Персиани с хвостом кометы – мы предоставляем Санчо для его «самонаслаждения», так как он явно находит удовольствие в таких «нелепых суждениях», хотя, впрочем, даже и это нелепое сравнение стало какою-то реальностью в условиях нелепости современных отношений. Деньги – общий масштаб всех, даже самых разнородных вещей.
Впрочем, несравнимость Санчо сводится к той же пустой фразе, к которой свелась его единственность. Индивиды не должны более измеряться каким-то независимым от них tertium comparationis, а сравнение должно превратиться в их саморазличение, т.е. в свободное развитие их индивидуальности, которое осуществляется тем путем, что они выбрасывают из головы «навязчивые идеи».
Впрочем, Санчо знаком только с тем методом сравнения, которым пользуются писаки и болтуны, – методом, приводящим к тому глубокомысленному выводу, что Санчо не есть Бруно, а Бруно не есть Санчо. Но он, конечно, совершенно не знаком с науками, которые достигли больших успехов лишь благодаря сравнению и установлению различий в сфере сравниваемых объектов и в которых сравнение приобретает общезначимый характер, – с такими науками, как сравнительная анатомия, ботаника, языкознание и т.д.
Великие нации – французы, северо-американцы, англичане – постоянно сравнивают себя друг с другом как практически, так и теоретически, как в конкуренции, так и в науке. Мелкие лавочники и мещане, вроде немцев, которым страшны сравнение и конкуренция, прячутся за щит несравнимости, изготовленный для них их фабрикантом философских ярлыков. Санчо вынужден, не только в их интересах, но и в своих собственных, воспретить себе всякое сравнение.
На стр. 415 Санчо говорит:
«Не существует Никого, равного Мне»,
а на стр. 408 общение с «Себе равными» изображается как процесс растворения общества в общении:
«Ребенок предпочитает обществу общение, в какое он вступает с Себе равными».
Однако Санчо употребляет иногда выражения «равный Мне» и «равное вообще» в смысле «тот же самый», – ср., например, цитированное выше место на стр. 183:
«Совершенно равным, тем же самым они не могут ни быть, ни обладать».
И здесь-то он приходит к своему заключительному «новому превращению», которое используется им особенно в «Комментарии».
Единственность, самобытность, «собственное» развитие индивидов, не имеющие, по мнению Санчо, места во всех, напр., «человеческих работах», хотя никто не станет отрицать, что один печник делает печь не на «тот же самый» лад, что и другой; «единственное» развитие индивидов, которое, по мнению того же самого Санчо, не имеет места в религиозной, политической и т.д. сферах (смотри «Феноменологию»), хотя никто не станет отрицать, что из всех лиц, верующих в ислам, ни один не верует в него на «тот же самый» лад и, значит, в этом отношении каждый из них является «единственным», и что точно так же среди всех граждан ни один не относится к государству на «тот же самый» лад уже хотя бы потому, что дело идет о его отношении, а не об отношении другого, – вся эта хваленая «единственность», которая настолько отличается от «тождества», идентичности личности, что Санчо видит во всех существовавших до сих пор индивидах почти только «экземпляры» одного рода, – вся эта «единственность» сводится здесь, следовательно, к полицейски устанавливаемому тождеству личности с самой собой, к тому, что один какой-нибудь индивид не есть другой индивид. Так, герой, собравшийся штурмовать мир, опускается до роли писаря паспортного бюро.
На стр. 184 «Комментария» он рассказывает с большой торжественностью и великим самонаслаждением, что Он не становится сытым от того, что японский император ест, ибо его желудок и желудок японского императора – «единственные», «несравнимые желудки», т.е. не те же самые желудки. Если Санчо думает, что этим он уничтожил существовавшие до сих пор социальные отношения или хотя бы только законы природы, то его наивность чересчур уж велика, и проистекает она лишь из того, что философы изображали социальные отношения не как взаимоотношения данных, тождественных с собой, индивидов, а законы природы – не как взаимоотношения данных определенных тел.
Широко известно классическое выражение, которое Лейбниц дал этому старому положению (фигурирующему на первой странице любого учебника физики в виде учения о непроницаемости тел):
«Необходимо, однако, чтобы каждая монада отличалась от любой другой, ибо в природе никогда не бывает двух существ, в точности совпадающих друг с другом» («Принципы философии или тезисы и т.д.»).
Единственность Санчо низводится здесь до качества, общего у него с любой вошью и любой песчинкой.
Величайшим саморазоблачением, каким только могла закончиться философия, является то, что она выдает за одно из замечательнейших открытий доступное каждому деревенскому простофиле и полицейскому сержанту убеждение, что Санчо не есть Бруно, и что она считает факт этого различия истинным чудом.
Так «ликующий критический клич» нашего «виртуоза мышления» превратился в некритическое мизерере.
— — —
После всех этих приключений наш «единственный» оруженосец снова причаливает к своей тихой пристани – к родной хибарке. Тут «с ликованием» бросается ему навстречу «заглавный призрак его Книги»[431]. Первый вопрос: как себя чувствует ослик?
– Лучше, чем его господин, – отвечает Санчо.
– Благодарение господу, что он был так милостив ко мне; но расскажи мне теперь, мой друг, что принесла Тебе Твоя должность оруженосца? Какое новое платье привез Ты мне?
– Я не привез ничего из вещей этого рода, – отвечает Санчо, – но зато я привез «творческое Ничто, Ничто, из которого я сам, в качестве творца, создаю все». Это значит, что Ты меня еще увидишь в качестве отца церкви и архиепископа острова, и притом одного из лучших островов.
– Дай бог, мое сокровище, и поскорее бы, ибо мы в этом очень нуждаемся. Но о каком таком острове говоришь ты? Я этого что-то не понимаю.
– Это не твоего ума дело, – отвечает Санчо. – В свое время Ты сама это увидишь, жена. Но уже сейчас могу Тебе сказать, что нет ничего приятнее на свете, как почетная роль искателя приключений, выступающего в качестве согласного с собой эгоиста и оруженосца печального образа. Правда, по большей части в этих приключениях «конечная цель их не достигается» настолько, чтобы «человеческая потребность была удовлетворена» (tan como el hombre querria)[432], ибо при девяноста девяти приключениях из ста получается шиворот-навыворот. Я это знаю по опыту, потому что в некоторых случаях меня надували, в других – со мной расправлялись так, что я едва уносил ноги. Но при всем