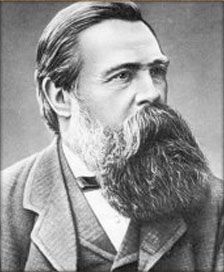этом это все же превосходная штука, ибо «единственное» требование удовлетворяется каждый раз, когда бродишь этак по всей истории, цитируешь все книги берлинского читального зала, во всех языках устраиваешься на этимологический ночлег, извращаешь во всех странах политические факты, фанфаронски бросаешь вызовы всем драконам, страусам, кобольдам, лешим и призракам, дерешься со всеми отцами церкви и философами и, в конце концов, расплачиваешься за все это только своим собственным горбом (ср. Сервантес, I, гл. 52).
2. Апологетический комментарий
{309}
Хотя Санчо некогда, находясь еще в состоянии своего унижения (Сервантес, гл. 26 и 29), питал всяческие «сомнения» насчет того, принять ли ему доходную церковную должность, однако, обдумав изменившиеся обстоятельства и свое прежнее послушническое положение в качестве прислужника религиозного братства (Сервантес, гл. 21), он, наконец, решился «выбить из головы» это сомнение. Он стал архиепископом острова Баратарии и кардиналом и в качестве такового восседает ныне с торжественным видом и подобающим первосвященнику достоинством среди первых лиц нашего собора. Теперь, после длинного эпизода с «Книгой», мы возвращаемся к этому собору.
Мы находим, правда, что «брат Санчо» в своем новом положении очень изменился. Он представляет теперь ecclesia triumphans[433] – в противоположность ecclesia militans[434], в которой он находился раньше. Вместо воинственных трубных звуков «Книги» появилась торжественная серьезность, вместо «Я» выступает «Штирнер». Это показывает, насколько справедлива французская поговорка: qu’il n’y a qu’un pas du sublime au ridicule[435]. С тех пор, как Санчо стал отцом церкви и пишет пастырские послания, он называет себя только «Штирнером». Этому «единственному» способу самонаслаждения он научился у Фейербаха, но, к сожалению, способ этот пристал ему не больше, чем его ослику игра на лютне. Когда он говорит о себе в третьем лице, то каждый видит, что Санчо-«творец» обращается, на манер прусских унтер-офицеров, к своему «творению» – Штирнеру в третьем лице, и что его никак не следует смешивать с Цезарем{310}. Впечатление становится еще комичнее от того, что Санчо поступает так непоследовательно только из желания конкурировать с Фейербахом. «Самонаслаждение» Санчо, доставляемое ему его выступлением в роли великого человека, становится здесь, malgre lui[436], наслаждением для других.
То «особенное», что Санчо делает в своем «Комментарии», – поскольку мы не «использовали» его уже в эпизоде – состоит в том, что он потчует нас рядом новых вариаций на знакомые темы, разыгранные с утомительным однообразием уже в «Книге». Здесь музыка Санчо, которая, подобно музыке индийских жрецов Вишну, знает только одну ноту, разыгрывается несколькими регистрами выше. Но при этом ее снотворное действие остается, конечно, тем же самым. Так, например, здесь снова всячески размазывается противоположность между «эгоистическим» и «святым» – под трактирной вывеской противоположности между «интересным» и «неинтересным», а затем между «интересным» и «абсолютно интересным», – нововведение, которое, впрочем, может быть интересным только для любителей опресноков, vulgo[437]: мацы. Сердиться на «образованного» берлинского мещанина за беллетристическое превращение заинтересованного в интересное, конечно, не приходится. Все те иллюзии, которые, по излюбленной причуде Санчо, сочиняются «школьными наставниками», появляются здесь «в виде трудностей – сомнений», которые «создал лишь дух» и которые «бедные души, давшие навязать себе эти сомнения», «должны… преодолеть легкомыслием» (пресловутое выбивание из головы) (стр. 162). Затем следует «рассуждение» о том, как надо выбить из головы «сомнения», при помощи ли «мышления» или же «отсутствия мыслей», и критически-моральное adagio, где он изливает свою скорбь в минорных аккордах: «Нельзя заглушать мышление, скажем, ликованием» (стр. 166).
Чтобы успокоить Европу, в особенности угнетенную Old merry and young sorry England[438], Санчо, как только он немножко привык к своему епископскому chaise persee[439], обращается к нам с высоты его со следующим милостивым пастырским посланием:
«Штирнеру совершенно не дорого гражданское общество и он отнюдь не думает расширить это общество настолько, чтобы оно поглотило государство и семью» (стр. 189).
Пусть имеют это в виду г-н Кобден и г-н Дюнуайе.
В качестве архиепископа Санчо немедленно берет на себя функции духовной полиции и на стр. 193 дает Гессу нагоняй за «нарушающее полицейские правила» смешение лиц, тем более непростительное, что наш отец церкви все время силится установить их тождество. Чтобы доказать тому же самому Гессу, что «Штирнер» обладает и «героизмом лжи» – этим правоверным свойством согласного с собой эгоиста, – он на стр. 188 заводит свою песню: «Но Штирнер не говорит вовсе, – вопреки утверждению Гесса, – будто вся ошибка прежних эгоистов заключалась лишь в том, что они совершенно не сознавали своего эгоизма». Ср. «Феноменологию» и всю «Книгу». – Другое свойство согласного с собой эгоиста – легковерие – он обнаруживает на стр. 182, где он «не оспаривает» мнения Фейербаха, что «индивид как таковой есть коммунист». – Дальнейшее проявление его полицейской власти мы находим на стр. 154, где он делает выговор всем своим рецензентам за то, что они не занялись «подробнее эгоизмом, как его понимает Штирнер». Все они, конечно, впали в ошибку, полагая, будто речь идет о действительном эгоизме, между тем как речь шла только о «штирнеровском» понимании его.
Способность Санчо играть роль отца церкви подтверждается в «Апологетическом комментарии» еще тем, что начинается этот комментарий с лицемерного заявления:
«Может быть, краткое возражение окажется не бесполезным, если не для названных рецензентов, то хотя бы для некоторых других читателей книги» (стр. 147).
Санчо прикидывается здесь самоотверженным и утверждает, что готов пожертвовать своим драгоценным временем ради «пользы» публики, хотя он повсюду уверяет нас, что имеет всегда в виду лишь свою собственную пользу, и хотя в данном случае наш отец церкви стремится спасти только свою шкуру.
На этом можно было бы покончить с «особенностью» «Комментария». Но «Единственное», которое, впрочем, встречается уже и в «Книге», стр. 491, мы держали про запас до настоящего момента не столько для «пользы» «некоторых других читателей», сколько для собственной пользы «Штирнера». Рука руку моет, откуда неоспоримо следует, что «индивид есть коммунист».
Для философов одна из наиболее трудных задач – спуститься из мира мысли в действительный мир. Язык есть непосредственная действительность мысли. Так же, как философы обособили мышление в самостоятельную силу, так должны были они обособить и язык в некое самостоятельное, особое царство. В этом тайна философского языка, в котором мысли, в форме слов, обладают своим собственным содержанием. Задача спуститься из мира мыслей в действительный мир превращается в задачу спуститься с высот языка к жизни.
Мы уже показали, что обособление мыслей и идей в качестве самостоятельных сил есть следствие обособления личных отношений и связей между индивидами. Мы показали, что исключительное систематическое занятие этими мыслями, практикуемое идеологами и философами, а значит и систематизирование этих мыслей есть следствие разделения труда и что в частности немецкая философия есть следствие немецких мелкобуржуазных отношений. Философам достаточно было бы свести свой язык к обыкновенному языку, от которого он абстрагирован, чтобы узнать в нем извращенный язык действительного мира и понять, что ни мысли, ни язык не образуют сами по себе особого царства, что они – только проявления действительной жизни.
Санчо, следующий по всем путям и перепутьям за философами, неизбежно вынужден искать философский камень, квадратуру круга и жизненный эликсир, вынужден искать «Слово», которое как таковое обладало бы чудодейственной силой, способной вывести из царства языка и мысли в действительную жизнь. От долголетнего общения с Дон Кихотом Санчо так набрался его духа, что не замечает, что эта его «задача», это его «призвание» представляет собой не что иное, как результат его веры в увесистые философские рыцарские романы.
Санчо начинает с того, что опять рисует перед нами господство Святого и идей в мире – на этот раз в новом виде господства языка или фразы. Язык, лишь только он обособляется в самостоятельную силу, тотчас же, конечно, становится фразой.
На стр. 151 Санчо называет современный мир «миром фразы, миром, в начале которого было слово». Он подробно излагает мотивы своей погони за волшебным словом:
«Философская спекуляция стремилась отыскать предикат, который был бы настолько всеобщ, что заключал бы в себе каждого… Для того, чтобы предикат заключал в себе каждого, каждый должен являться в нем в качестве субъекта, т.е. не просто в качестве того, чтo он есть, но как тот, кто он есть» (стр. 152).
Так как спекуляция «искала» таких предикатов, которые Санчо называл раньше призванием, назначением, задачей, родом и т.д., то и действительные люди «искали» себя до сих пор «в слове, логосе, предикате» (стр. 153). До сих пор пользовались именем, чтобы в рамках языка отличать одного индивида – просто как тождественное лицо – от другого. Но Санчо не успокаивается на обыкновенных именах; так как философская спекуляция поставила перед ним задачу отыскать столь всеобщий предикат, чтобы он содержал в себе каждого в качестве субъекта, то Санчо ищет философское, абстрактное имя, ищет «Имя», которое превыше всех имен, – имя всех имен, имя как категорию, которое, например, отличало бы Санчо от Бруно, а их обоих – от Фейербаха, с такой же точностью, с какой их отличают друг от друга их собственные имена, и которое в то же время было бы применимо ко всем трем так же, как и ко всем другим людям и живым существам, – нововведение, способное внести величайшую путаницу во все вексельные отношения, брачные контракты и т.д. и одним ударом стереть с лица земли все нотариальные конторы и бюро записей гражданского состояния. Это чудотворное имя, это волшебное слово, которое в языке есть смерть языка, этот ослиный мост[440], ведущий к жизни, эта высшая ступень китайской небесной лестницы есть – Единственный. Чудодейственные свойства этого слова воспеваются в следующих строфах:
«Единственный – это лишь последнее, умирающее высказывание о Тебе и обо Мне, это высказывание, которое превращается в мнение:
высказывание, которое уже не есть более высказывание,
немеющее, немое высказывание» (стр. 153).
«В нем» (Единственном) «неизреченное есть самое главное» (стр. 149).
Он «лишен определения» (там же).
«Он указывает на свое содержание, лежащее вне или по ту сторону понятия» (там же).
Он – «лишенное определения понятие, и никакие иные понятия не могут сделать его более определенным» (стр. 150).
Он – философское «крещение» мирских имен (стр. 150).
«Единственный – это лишенное мысли слово.
Он не имеет никакого мысленного содержания».
«Он выражает собою Того», «кто не может существовать вторично, а следовательно не может быть и выражен;
Ибо если бы он мог быть выражен действительно и вполне, то он существовал бы вторично, воплотившись в выражении» (стр. 151).
Воспев, таким образом, свойства этого слова, он чествует результаты, полученные благодаря открытию его чудотворной силы, в следующих антистрофах:
«Вместе с Единственным завершено царство абсолютных мыслей» (стр. 150).
«Он – камень, замыкающий свод нашего мира фраз» (стр. 151).
«Он – логика, которая,