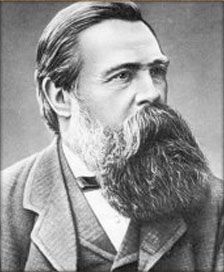что бы то ни стало сделать носительницей всего духа времени, а мимоходом и Гегелю приходится отвести соответствующее местечко. Мы видим, что г-н Юнг до сих пор находился в состоянии раздвоения: в одном уголке сердца он носил Гегеля, в другом — «Молодую Германию». Теперь, составляя эти лекции, он вынужден был поставить то и другое в связь. Нелёгкая задача! Левая рука ласкала философию, правая рука — поверхностную, мишурную нефилософию, и воистину, по-христиански, правая рука не ведала, что творила левая. Как выйти из такого положения? Вместо того чтобы честно отказаться от одной из несовместимых склонностей, он смелым поворотом вывел нефилософию из философии.
С этой целью бедному Гегелю отводится тридцать страниц. На могилу великого человека изливается мутным потоком напыщенный, высокопарный апофеоз; затем г-н Юнг силится доказать, что основной чертой гегелевской системы является утверждение свободного субъекта в противовес гетерономии косной объективности. Но вовсе не нужно быть особенным знатоком Гегеля, чтобы знать, что он стоял на гораздо более высокой ступени, придерживаясь точки зрения примирения субъекта с объективными силами, что он относился с огромным почтением к объективности, ставил действительность, существующее гораздо выше субъективного разума отдельной личности и от последней как раз и требовал признания объективной действительности разумной. Гегель не был пророком субъективной автономии, как полагает г-н Юнг и как она проявляется в форме произвола у «Молодой Германии». Принцип Гегеля — тоже гетерономия, подчинение субъекта всеобщему разуму, а иногда даже, как, например, в философии религии, — всеобщему неразумию. Больше всего Гегель презирал рассудок, а что это такое, как не разум, фиксированный в своей субъективности и единичности. На это г-н Юнг мне, пожалуй, возразит, что его не так поняли, что он говорит лишь о чисто внешнем авторитете, что и он также не хочет видеть у Гегеля ничего другого, как только примирение обеих сторон и что «современный» индивид стремится, по его мнению, только к тому, чтобы видеть себя обусловленным лишь «собственным проникновением в разумность объективного»; — но тогда и я попрошу не валить Гегеля в одну кучу с младо-германцами, сущность которых как раз и состоит в субъективном произволе, причуде, странности; тогда «современный индивид» будет лишь другим выражением для определения гегельянца. При такой безграничной путанице г-н Юнг непременно отыщет «современное» и в недрах гегелевской школы, и тогда уж наверняка окажется, что её левое направление более всего призвано к братанию с младогерманцами.
Наконец, он переходит к «современной» литературе, и тут начинается сплошной панегирик и расшаркивание. Здесь нет никого, кто бы не совершил чего-нибудь хорошего, никого, кто не был бы представителем чего-нибудь выдающегося, никого, кому литература не была бы обязана каким-нибудь достижением. Эти бесконечные комплименты, эти примирительные потуги, страсть разыгрывать литературного сводника и маклера — невыносимы. Какое дело литературе до того, что у того или иного писателя имеется крупица таланта, что он временами создаст какой-нибудь пустяк, если он вообще никуда не годится, если всё его направление, его литературный облик, всё его творчество в целом ничего не стоят? В литературе всякий ценен не сам по себе, а лишь в своём взаимоотношения с целым. Если-бы я придерживался такого метода критики, я должен был бы снисходительнее отнестись и к самому г-ну Юнгу, так как возможно, что страниц пять в этой книге недурно написаны и обнаруживают некоторый талант. — Г-н Юнг изрекает с чрезвычайной лёгкостью и даже с известной важностью массу курьёзных суждений. Так, приводя резкие отзывы критики о Пюклере, он радуется тому, что она «выносит свои приговоры, не считаясь с лицом и званием. Это поистине свидетельствует о высоком уровне внутренней независимости немецкой критики». Какого же дурного мнения должен быть г-н Юнг о немецкой нации, чтобы ставить ей это в такую великую заслугу! Как будто нужна невероятная смелость, чтобы раскритиковать сочинения какого-то князя!
Не будем останавливаться на этой болтовне, претендующей на то, чтобы стать историей литературы, и, кроме своей внутренней пустоты и бессвязности, изобилующей также огромными пробелами; так, в ней отсутствуют лирики: Грюн, Ленау, Фрейлиграт, Гервег, драматурги: Мозен и Клейн и т. д. Наконец, автор приходит к той же теме, которая влекла его с самого начала, — к своей обожаемой «Молодой Германии», являющейся для него совершенным выражением «современного». Он начинает с Бёрне. В действительности же влияние Берне на «Молодую Германию» не так уж велико, Мундт и Кюне объявили его сумасшедшим, для Лаубе он был слишком демократичен, слишком решителен, и лишь на Гуцкове и Винбарге сказалось его более длительное влияние. Особенно Гуцков очень многим обязан Бёрне. Наибольшее влияние, которое оказал Берне, заключалось в его внешне незаметном воздействии на нацию, которая хранила его произведения как святыню и черпала в них силу и поддержку в мрачные времена 1832–1840 гг., пока не народились истинные сыны автора «Парижских писем»[134] в лице новых, философских либералов. Без прямого и косвенного влияния Бёрне свободному направлению, вышедшему из школы Гегеля, было бы гораздо труднее конституироваться. Но теперь всё сводилось лишь к тому, чтобы расчистить засыпанные пути мысли между Гегелем и Бёрне, а это было не так уж трудно. Оба эти человека стояли друг к другу ближе, чем это казалось. Непосредственность, здоровые воззрения Бёрне являлись практической стороной того, что Гегель имел в виду, по крайней мере, теоретически. Конечно, г-н Юнг этого также не видит. Правда, Бёрне для него в известной мере почтенная личность, обладавшая даже характером, что при определённых обстоятельствах очень ценно, у него имеются неоспоримые заслуги, примерно такие же, как у Варнхагена и Пюклера, он писал, в особенности, хорошие театральные рецензии, но он был фанатик и террорист, а от этого упаси нас, боже! Позор такому бесцветному, трусливому представлению о человеке, который единственно благодаря своим убеждениям стал выразителем духа своего времени! Этот Юнг, который хочет сконструировать «Молодую Германию» и даже личность Гуцкова из абсолютного понятия, никак не в состоянии понять такой простой характер, как Бёрне; он не видит, что даже самые крайние, самые радикальные суждения с необходимостью, последовательно вытекают из сокровеннейшего существа Бёрне, что Бёрне по своей натуре был республиканцем и что для республиканца «Парижские письма» написаны, право, не слишком резко. Или г-н Юнг никогда не слышал, что говорит швейцарец или североамериканец о монархических государствах? И кто поставит Бёрне в укор, что он «рассматривал жизнь только под углом зрения политики»? Разве Гегель делает не то же самое? Разве и для него государство в своём переходе к мировой истории, следовательно, в области внутренней и внешней политики, не является конкретной реальностью абсолютного духа? И при этом непосредственном, наивном воззрении Бёрне, которое находит себе дополнение в более широких воззрениях Гегеля и часто поразительнейшим образом с ними совпадает, г-н Юнг, как это ни смешно, всё-таки полагает, что Бёрне якобы «набросал себе систему политики и счастья народов», какую-то абстрактную химеру, которой-де приходится объяснять его односторонности и крайности! Г-н Юнг не имеет никакого понятия о значении Бёрне, о его железном, непреклонном характере, о его импонирующей силе воли; и это потому, что сам он такой маленький, мягкосердечный, несамостоятельный, угодливый человечек. Он не знает, что Бёрне как личность — единственное в своём роде явление в немецкой истории; он не знает, что Бёрне был знаменосцем немецкой свободы, единственным мужем в Германии своего времени; он не представляет себе, что значит восстать против сорока миллионов немцев и провозгласить царство идеи; он не может понять, что Бёрне является Иоанном Крестителем нового времени, который проповедует самодовольным немцам о покаянии и возвещает им, что топор уже занесён над корнем дерева и что грядёт сильнейший, который будет крестить огнём и безжалостно выметет все плевелы. К этим плевелам нужно отнести и г-на Юнга. Наконец, г-н Юнг добирается до своей дорогой «Молодой Германии» и для начала даёт сносную, но чересчур уж подробную критику Гейне. Затем следуют по очереди остальные: сначала Лаубе, Мундт, Кюне, затем Винбарг, которому воздаётся дань по заслугам, и, наконец, почти пятьдесят страниц посвящается Гуцкову. На долю первых трёх приходится обычная похвала в стиле juste-milieu, много одобрения и очень умеренное порицание; Винбаргу отдаётся решительное предпочтение, но ему уделяется лишь четыре страницы, и, наконец, Гуцков с бесстыдным низкопоклонством возводится в носители «современного», образ его конструируется по гегелевской схеме понятий, и он расценивается как личность первого ранга.
Если бы с подобными суждениями выступил молодой, только что начинающий автор, с этим можно было бы ещё примириться. Ведь кое-кто в течение известного времени возлагал надежды на «молодую литературу» и в расчёте на будущее оценивал её произведения более снисходительно, чем сделал бы это при других обстоятельствах, следуя своему внутреннему убеждению. Особенно тот, кто воспроизводил в своём собственном сознании последние ступени развития германского духа, вероятно, когда-нибудь и относился с особой симпатией к произведениям Мундта, Лаубе или Гуцкова. Но с тех пор литературное движение пошло энергично вперёд, оставив далеко позади это направление, и пустота большинства младо-германцев обнаружилась с ужасающей очевидностью.
«Молодая Германия» вырвалась из неясности неспокойного времени, но сама ещё оставалась в плену этой неясности. Мысли, бродившие тогда в головах в смутной и неразвитой форме и осознанные позже лишь с помощью философии, были использованы «Молодой Германией» для игры фантазии. Этим объясняется неопределённость, путаница понятий, господствовавшие среди самих младогерманцев. Гуцков и Винбарг лучше других знали, чего они хотят, Лаубе — меньше всех. Мундт гонялся за социальными фантасмагориями; Кюне, в котором проглядывало кое-что от Гегеля, схематизировал и классифицировал. Но при всеобщей неясности мысли не могло получиться ничего путного. Мысль о полноправности чувственного начала понималась, по примеру Гейне, грубо и плоско; либеральные политические принципы были различны у разных лиц, и положение женщины давало повод к самым бесплодным и путаным дискуссиям. Никто не знал, чего ему ждать от другого. Всеобщей неурядице того времени следует приписать и меры, принятые различными правительствами против этих людей. Фантастическая форма, в которой пропагандировались эти воззрения, могла лишь способствовать усилению путаницы. Младогерманцы, благодаря внешнему блеску их произведений, остроумному, пикантному, живому стилю, таинственной мистике, в которую облекались главные лозунги, а также возрождению критики и оживлению беллетристических журналов под их влиянием, привлекли к себе вскоре массу молодых писателей, и через короткое время у каждого из них, кроме Винбарга, образовалась своя свита. Старая, бесцветная беллетристика должна была отступить под напором юных сил, и «молодая литература» заняла завоёванное поле, поделила его между собой