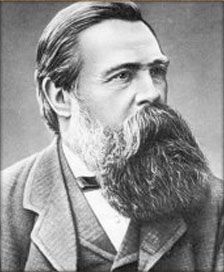же при внимательном чтении вы найдете в этой статье мало оснований для тех надежд, которые она возбудила. Помимо единственного утверждения, что обязательства императора по отношению к королю Сардинии не идут дальше обещаний защиты от австрийской агрессии — обещаний, в которых Виктор-Эммануил наверняка не нуждался, во всяком случае после того как его войска были посланы на поддержку французских и английских войск под Севастополем, — мы не видим в этом манифесте ничего, кроме нового издевательства над общественным мнением. В статье фактически предлагается миру забыть, в интересах французского узурпатора, что не газеты, а именно он встревожил и взбудоражил Европу необоснованной и демонстративной угрозой, адресованной Австрии через ее посла {Хюбнера. Ред.} в день Нового года, — что именно его печать, его памфлетисты, его кузен {Бонапарт, Наполеон Жозеф Шарль Поль. Ред.}, накопление им вооружения и закупки военного снаряжения распространили военную панику, явившуюся результатом его же собственных преднамеренно произнесенных слов. В самой этой статье нет ни одной строчки, ни одной фразы, которая содержала бы хоть намек на отказ его от претензий и от интриг в Италии и княжествах Молдавии и Валахии[148]. Он возможно решил отступить перед общественным мнением Европы (за исключением Италии, но не исключая Франции); но возможно также, что он решил заговорить миролюбивым и умеренным языком, дабы покрыть гигантские биржевые спекуляции и обманным путем вызвать у тех, на кого он собирается напасть, роковую уверенность в безопасности. Во всем его новом манифесте от первого до последнего слова нет и намека на то, что это изменение не столько самой позиции, сколько тона, было обусловлено и оправдано каким-либо уменьшением спесивости Австрии, каким-либо прояснением дипломатического горизонта. Кажется невозможным, чтобы человек, готовящий громовой удар, проявлял такие миролюбивые настроения; но не надо забывать, что это все тот же Луи-Наполеон, который в самый канун рокового дня, когда он изменническим образом задушил Французскую республику, жаловался одному республиканцу по поводу цинизма тех, которые считали его способным замышлять подобную низость. Поэтому мы считаем этот наполеоновский манифест «заключением, которое ничего не заключает». Это только белая куча, которая может оказаться либо обыкновенной мукой, либо просто вывалянным в муке котом, но чем именно — покажет только будущее.
Комментарии лондонского «Times» имеют большее значение в той части, где дается совет сдержанно отнестись к манифесту, чем в той, где он открыто одобряется. Луи-Наполеон больше никогда не сможет быть полубогом биржи и буржуазии. Отныне он управляет только силой меча.
ВЗДОХ ИЗ ТЮИЛЬРИ
Император Наполеон, должно быть, действительно находится в очень плачевном положении, раз он не только написал весьма слезливое письмо, но и адресовал его сэру Ф. Хеду, который является далеко не самым жизнерадостным из мелких государственных деятелей. Сэр Ф. Хед напечатал это письмо в лондонском «Times»[149], далеко не самой оптимистической из британских газет, придав тем самым всему делу особую торжественность, невиданную до сих пор в веселой стране галлов, и даже здесь, в туманной Англии, это прозвучало погребальным звоном. «Мой дорогой сэр Фрэнсис», гласит нежное обращение императора к баронету мыльных пузырей[150], в конце письма также стоит: «Мой дорогой сэр Фрэнсис». Сэр Фрэнсис, по-видимому, и до этого писал какие-то письма в защиту императора в лондонский «Times». Можно не сомневаться, что эти письма были прекрасны, как это часто бывает с корреспонденциями в прессе, написанными по собственной инициативе, по мы что-то не припоминаем, чтобы мы их читали или хотя бы бегло просматривали, и уверены, что они почти или вовсе не обсуждались в имперском парламенте. Его величество Наполеон получил эти произведения от автора, и так как великие люди часто бывают благодарны за поднесенные им ремни для правки бритв или большие головки сыра, то и его величество Наполеон с невеселым видом благодарит сэра Фрэнсиса Хеда за его статьи. Императору очень приятно убедиться в том, что его еще не забыли в Англии, и он трогательно вспоминает те дни, когда лавочники этой страны предоставляли ему такой кредит, каким никогда еще не пользовался ни один бродячий принц[151].
«Теперь», — говорит он, — «я ясно вижу, какие хлопоты несет с собой власть, и самым неприятным, по-моему, является то, что тебя не понимают и о тебе неверно судят именно те, кого ты больше всего ценишь и с кем хотел бы жить в добром согласии».
Кроме того, он открыто заявляет, что свобода — это обман.
«Я глубоко сожалею», — говорит он, — «что свобода, подобно всему хорошему, имеет свои крайности! Почему вместо распространения правды она прилагает все усилия, чтобы затемнить ее? Почему вместо поощрения и развития благородных чувств она сеет недоверие и ненависть?»
И император, священную особу которого таким образом уязвила свобода, благодарит дорогого сэра Фрэнсиса за то, что он без колебаний, честно, бескорыстно и энергично выступил против подобных заблуждений.
Нисколько не входя в политические детали его нынешних горестей, мы не понимаем, почему его величество Наполеон III рассчитывает на то, что он постоянно будет в радужном и веселом настроении? Разве жизненный путь семьи, мнимым членом которой он является, был таким радостным и солнечным, что, когда он добивался трона Франции, когда рисковал во время своих миниатюрных вторжений[152] своей жизнью, свободой и теми деньгами, которые ему удавалось занять, он мог предполагать, что гонится за розовым венком сибаритских наслаждений, за расположением людей, за личными удовольствиями, за благословениями Джона Буля и за расположением Европы, для получения которого нужны вымогательства! Разве он никогда не слышал замечания «божественного Вильяма»:
«Да, не легка ты, доля венценосца!»
{Шекспир. «Король Генрих IV», часть II, акт III, сцена первая. Ред.}
Разве он не считал, что из всех людей именно он призван судьбой и долгом к тому, чтобы страдать мигренью в Тюильри ради блага всей нации? Зачем же он бросается на широкую грудь уважаемого сэра Ф. Хеда и плачет от того, что корона, которой он так страстно домогался, жмет его чело? И если он считает нужным писать в «Times», то почему он этого не делает сам, вместо того чтобы за него писал захудалый баронет? Ведь он неоднократно грубо пренебрегал этикетом. Разве он не мог бы так же поступить и теперь?
Жалкие плутни, если можно употребить такое непочтительное выражение по адресу высокопоставленных лиц, были излюбленным приемом дяди, а племянник, по-видимому, довольно успешно копирует его. Основатель династии имел обыкновение пространно разглагольствовать, обильно заливаясь слезами и почти впадая в сентиментальность, о своих страданиях, мучениях, испытаниях, об опасностях, которым он подвергался, и в особенности о плохом обращении с ним «коварного Альбиона». Но мы полагаем, что ему ни разу не удалось поместить в лондонском «Times» письмо, адресованное англичанину. Наполеон I добивался того, что над ним от души смеялись в Англии и его столь же искренне жалели во Франции, но зато иногда и ему удавалось заставить плакать своих хихикающих соседей. Но если бы Наполеон I занимался только лишь писанием писем к современным ему сэрам Фрэнсисам Хедам и никогда не делал ничего лучшего, то его бы, вероятно, освободили от мучительных обязанностей в Тюильри гораздо раньше, чем это случилось на самом деле, когда он отправился в спокойную обитель Св. Елены.
К. МАРКС
ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЙНЫ ВО ФРАНЦИИ
Париж, 9 марта 1859 г.
В то время, когда военная тревога охватила все европейские биржи, я писал, что Бонапарт еще далек от того, чтобы окончательно решиться воевать, но что, каковы бы ни были его действительные намерения, контроль над событиями, по-видимому, ускользнет из его рук. Но в настоящий момент, когда большая часть европейской прессы, кажется, склонна верить в мир, я уверен, что разразится война, если только какое-либо счастливое стечение обстоятельств не приведет к внезапному свержению узурпатора и его династии. Даже самый поверхностный наблюдатель должен признать, что в то время, как перспективы мира ограничиваются сферой разговоров, перспективы войны, напротив, опираются на материальные факторы. Военные приготовления, как во Франции, так и в Австрии, ведутся в небывалых размерах, и если мы примем во внимание безнадежное состояние обоих императорских казначейств, то мы и без пространных доводов сможем прийти к заключению, что затевается война и к тому же в недалеком будущем. Я позволю себе заметить, что Австрию преследует беспощадный рок, нити которого тянутся, пожалуй, до С.-Петербурга, рок, который всякий раз, когда ее финансы должны вот-вот окрепнуть, отбрасывает ее назад в пропасть финансовых бедствий с такой же неотвратимостью, с какой невидимая рука низвергала злосчастный камень, с таким трудом вкатываемый на гору Сизифом, всякий раз, когда обреченный мученик приближался к ее вершине. Так, после ряда лет непрерывных усилий, Австрии в 1845 г. удалось приблизиться к тому положению, когда расходы покрываются доходами; но тут разразилась краковская революция[153] и принудила ее к чрезвычайным расходам, которые привели к катастрофе 1848 года[154]. В другой раз, в 1858 г., она оповестила мир о возобновлении Венским банком наличного расчета, как вдруг новогоднее поздравление[155], присланное из Парижа, резко оборвало все расчеты Австрии на экономию и обрекло ее на такие затраты и такое истощение ресурсов, которые заставляют даже самых трезвых австрийских государственных деятелей смотреть на войну как на последнее средство спасения.
Из всех газет, которые могут похвастать тем, что имеют не только местное значение, «Tribune» является, пожалуй, единственной, которая никогда не опускалась до того, чтобы, следуя моде, — не скажу, восхвалять характер Луи Бонапарта, ибо это было бы слишком плохо, — приписывать ему гениальность и исключительную силу воли. «Tribune» подвергла анализу его политические, военные и финансовые подвиги и, на мой взгляд, неопровержимо доказала, что его успех, столь поразительный в глазах толпы, объясняется сплетением обстоятельств, которых он не создал и в использовании которых никогда не поднимался выше посредственного профессионального игрока, одаренного чутьем к возможным компромиссам, неожиданным маневрам и coups de main {смелым ударам, решительным действиям. Ред.}, но всегда остающегося покорным рабом случая и старательно скрывающего под железной маской гуттаперчевую душонку. Это как раз тот взгляд, которого с самого начала все великие державы Европы молча решили придерживаться по отношению к grand saltimbanque {великому скомороху. Ред.}, как прозвали его русские дипломаты. Понимая, что он был опасен потому, что поставил себя в опасное положение, они согласились позволить ему разыгрывать из себя преемника Наполеона, однако на том определенном, молчаливом условии, что он всегда