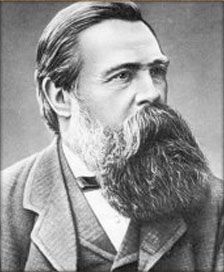будет довольствоваться только видимостью влияния и никогда не перешагнет границ, которые отделяют актера от изображаемого им героя. Некоторое время эта игра шла успешно, однако, дипломаты по своей обычной манере проглядели в своих мудрых расчетах один важный фактор — народ. Когда взорвались бомбы Орсини, герой Сатори сделал вид, что он принимает повелительную позу по отношению к Англии, а британское правительство выразило полную готовность разрешить ему подобное поведение; однако громкие требования народа оказали такое сильное давление на парламент, что не только был выброшен Пальмерстон[156], но и непременным условием хозяйничания на Даунинг-стрите[157] сделалась антибонапартистская политика. Бонапарт уступил, и с этого момента его внешняя политика представляет собой непрерывную цепь грубых промахов, унижений и неудач. Достаточно указать на его план иммиграции свободных негров и на его португальские авантюры[158]. Между тем, покушение Орсини привело к возрождению деспотизма внутри Франции, в то время как торговый кризис, превращенный шарлатанством из острой лихорадки в хроническую болезнь, лишил трон этого парвеню единственного реального базиса, на который он опирался, а именно — материального процветания. В рядах армии появились признаки недовольства; раздались сигналы, свидетельствующие о том, что буржуазия начинает бунтовать; угрозы личной мести со стороны соотечественников Орсини лишили узурпатора сна. Тогда узурпатор внезапно попробовал создать для себя новое положение, повторив mutatis mutandis {с соответствующими изменениями. Ред.} резкий окрик Наполеона по адресу английского посла после Люневильского мира[159] и бросив от имени Италии вызов Австрии. Не по своей собственной воле, а в силу обстоятельств предпринял столь отчаянно смелый шаг этот человек, воплощенная осторожность, фельдмаршал компромиссов, герой ночных сюрпризов.
Нет сомнения, что на этот шаг его толкнули ложные друзья. Пальмерстон, который в Компьене льстиво уверял его в симпатиях английских либералов, демонстративно выступил против него при открытии парламента[160]. Россия, которая подстрекала его тайными нотами и открытыми газетными статьями, по-видимому, вступила в дипломатические pourparlers {переговоры. Ред.} со своим австрийским соседом. Но жребий был брошен, призыв к войне раздался, и Европа была, так сказать, вынуждена пересмотреть прошлое, настоящее и будущее удачливого шулера, дожившего наконец до итальянской кампании, которой его дядя начал свою карьеру. В декабрьские дни он восстановил наполеонизм по Франции, но итальянской кампанией, по-видимому, решил восстановить его во всей Европе. Он имел в виду не итальянскую войну, а унижение Австрии, достигнутое без всякой войны. Успехи, которые его тезка добыл дулами пушек, он намеревался вырвать при помощи страха перед революцией. Совершенно очевидно, что он предполагал не воевать, а лишь добиться succes d’estime {успеха в силу одной только репутации. Ред.}. В противном случае он начал бы с дипломатических переговоров и кончил войной, а не наоборот. Прежде чем говорить о войне, он приготовился бы к ней, словом, не поставил бы телегу впереди лошади.
Однако он сильно ошибся в державе, с которой затеял ссору. Англия, Россия и Соединенные Штаты могут далеко пойти в отношении кажущихся уступок, не теряя при этом ни йоты своего действительного влияния; но Австрия — в особенности когда дело идет об Италии — не может отклониться от своего пути, не подвергая опасности свою собственную империю. Поэтому Бонапарт получил от Австрии один ответ: приготовления к войне, что принудило его приняться за то же самое. Совершенно независимо от его воли и прямо вопреки его ожиданиям притворная ссора приняла постепенно размеры столкновения не на жизнь, а на смерть. Более того, все получилось не так, как ему хотелось. Во Франции он натолкнулся на пассивное, но упорное сопротивление, а острое желание наиболее заинтересованных его друзей удержать его от безрассудных действий не оставляли сомнения в том, что они не верят в его наполеоновские дарования. В Англии либеральная партия отвернулась от него и осудила его претензии на то, чтобы рассматривать свободу как статью французского экспорта. Единодушно проявленное к нему пренебрежение в Германии доказало ему, что каковы бы ни были представления косного французского крестьянства в 1848 г., по другую сторону Рейна существует твердое убеждение, что он только поддельный Наполеон и что почтение, оказываемое ему германскими правителями, является простой условностью, словом, что он такой же Наполеон «благодаря любезности», как младшие сыновья английских герцогов — «лорды благодаря любезности»[161].
Неужели вы всерьез думаете, что затруднения, которые в январе 1859 г. привели этого человека к осложнениям с Австрией, будут преодолены смешным и постыдным reculade {отступлением, отходом. Ред.}, или же, что сам герой Сатори считает, что он улучшил свое безнадежное положение крупнейшим и самым недвусмысленным поражением, которое он когда-либо потерпел? Он знает, что французские офицеры даже для вида не скрывают своего крайнего раздражения по поводу его смехотворного вранья в «Moniteur» о нынешних военных приготовлениях; он знает, что парижский лавочник уже начинает проводить параллель между отступлением Луи-Филиппа перед европейской коалицией в 1840 г.[162] и grande retirade {широким отступлением. Ред.} Луи Бонапарта в 1859 году; он знает, что буржуазия охвачена явной, хотя и приглушенной яростью, в связи с тем, что должна подчиняться авантюристу, который оказался еще и трусом; он знает, что в Германии господствует нескрываемое презрение к нему и что еще несколько шагов в том же направлении сделают его посмешищем всего мира. «N’est pas monstre qui veut» {«не всякому дано быть чудовищем» (Гюго. «Наполеон Малый»). Ред.}, — сказал Виктор Гюго, но голландскому авантюристу нужна не просто репутация Квазимодо, ему надо прослыть за Квазимодо, внушающего ужас. Шансы, на которые он в настоящее время рассчитывает, чтобы начать войну всерьез, — а он знает, что должен начать ее, — таковы: Австрия не сделает ни малейшей уступки во время предстоящих дипломатических переговоров и тем самым даст ему довольно благовидный предлог для того, чтобы прибегнуть к оружию; Пруссия в своем ответе на австрийскую ноту от 22 февраля[163] проявила полное равнодушие, и антагонизм между обеими этими германскими державами может быть усилен. Внешняя политика Англии после падения кабинета Дерби перейдет в руки лорда Пальмерстона. Россия возьмет реванш над Австрией, сама не рискуя ни одним солдатом и ни одним рублем, а главное, она создаст в Европе осложнения, которые позволят ей получить все выгоды от тех сетей, которые она расставила Высокой Порте в Дунайских княжествах, Сербии и Черногории. Наконец, в Италии начнется пожар в то время, как дипломатический дым окутает конференцию в Париже, и народы Европы предоставят восставшей Италии то, в чем они отказывали ее самозванному защитнику. Таковы шансы, которые, как надеется Луи Бонапарт, еще раз направят ладью его счастья в открытое море. О том, какие муки страха приходится ему сейчас выносить, можно заключить хотя бы из того факта, что на недавнем заседании совета министров с ним случился сильный приступ рвоты. Ужас перед местью со стороны итальянцев стоит не на последнем месте в числе факторов, неумолимо толкающих его на войну. В том, что судьи итальянского Vehme[164] подстерегают его, он снова удостоверился три недели тому назад. В саду Тюильри был схвачен какой-то человек; его обыскали и нашли при нем револьвер и две или три ручные гранаты с затравками вроде тех, какие были найдены у Орсини. Разумеется, его арестовали и отвели в тюрьму. Он назвал итальянскую фамилию и говорил с итальянским акцентом. Он сказал, что может сообщить полиции много сведений, ибо он связан с тайным обществом. Однако в течение двух или трех дней он хранил полное молчание и наконец попросил поместить в его камеру еще кого-нибудь, заявив, что он не может и не хочет ничего говорить, пока его будут держать в одиночном заключении.
Ему дали компаньона в лице одного из тюремных чиновников, вроде архивариуса или библиотекаря. Тогда итальянец раскрыл или сделал вид, что раскрывает много тайн. Однако по истечении нескольких дней допрашивавшие его лица вернулись и заявили ему, что, по наведенным справкам, все его сообщения не подтверждаются фактами и что он должен говорить откровенно. Итальянец обещал сделать это на следующий день. На ночь его оставили в покое. Однако около четырех часов утра он встал, взял бритву своего соседа и перерезал себе горло. Вызванный врач нашел, что рана нанесена с такой силой, что смерть, должно быть, последовала мгновенно.
К. МАРКС
ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЙНЫ В ПРУССИИ
Берлин, 15 марта 1859 г.
Войну у нас считают неизбежной, но вопрос о том, какую роль должна сыграть Пруссия в предстоящей борьбе между Францией и Австрией, является предметом общего спора, и ни правительство, ни общественное мнение, по-видимому, не пришли ни к какому определенному мнению. Один факт должен был поразить вас, а именно то, что единственные воинственные петиции, присланные в Берлин, прибыли не из собственно Пруссии, а из Кёльна, столицы Рейнской Пруссии. Однако не следует придавать большого значения этим петициям, ибо они, очевидно, являются делом католической партии, которая, как в Германии, так и во Франции и Бельгии, конечно, солидаризуется с Австрией. В одном отношении можно сказать, что исключительное единодушие охватило всю Германию. Никто не высказывается в пользу Луи-Наполеона, никто не проявляет какой бы то ни было симпатии к «освободителю», наоборот, против него ежедневно изливается настоящий поток ненависти и презрения. Католическая партия считает его мятежником против папы и, разумеется, проклинает святотатственный меч, который будет вот-вот направлен против державы, своим конкордатом с Римом снова подчинившей значительную часть Европы папскому престолу[165]. Феодальная партия, хотя она и делает вид, что ненавидит французского узурпатора, на самом деле ненавидит французскую нацию и льстит себя надеждой, что посредством праведной войны против всей этой нации ужасные новшества, ввезенные из страны Вольтера и Жан Жака Руссо, будут выметены прочь. Торговая и промышленная буржуазия, некогда прославлявшая Луи Бонапарта как великого «спасителя порядка, собственности, религии и семьи», ныне не скупится на обличения безрассудного нарушителя мира, который, не желая довольствоваться подавлением бьющих через край сил Франции и усмирением смельчаков из числа социалистов полезными занятиями в Ламбессе и Кайенне[166], вбил себе в голову сумасбродную идею понизить курс ценных бумаг, расстроить ровный ход деловой жизни и снова пробудить революционные страсти. Широкие массы народа, по крайней мере, чрезвычайно довольны тем, что после вынужденного молчания, продолжавшегося годами, им разрешается дать волю своей ненависти к человеку, в котором они видят главную причину неудач революционного движения 1848–1849 годов. Вызывающих гнев воспоминаний о наполеоновских войнах и скрытого подозрения, что война против Австрии будет означать замаскированный ход против Германии, совершенно достаточно, чтобы придать произносимым против Бонапарта и вызванным самыми различными мотивами филиппикам некоторую