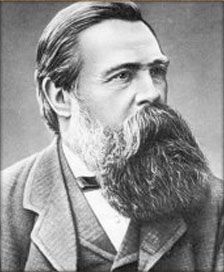теперешней гражданской войны, во время которой он, по специальному разрешению Бисмарка, натравил на Париж пленных Седана и Меца[207]. Несмотря на свои гибкие способности и изменчивость своих стремлений, он всю свою жизнь был самым закоренелым рутинером. Нечего и говорить, что более глубокие движения, происходящие в современном обществе, всегда оставались для него непостижимой тайной; его мозг, все силы которого ушли в язык, не мог освоиться даже с самыми осязательными изменениями, совершающимися на поверхности общества. Он, например, неустанно обличал как святотатство всякое уклонение от устаревшей французской протекционистской системы. Когда он был министром Луи-Филиппа, он издевался над железными дорогами, как над вздорной химерой, а будучи в оппозиции при Луи Бонапарте, он клеймил, как кощунство, всякую попытку преобразовать гнилую французскую военную систему. Ни разу в продолжение всей своей длительной политической карьеры он не провел ни одной сколько-нибудь практически полезной, пусть даже самой незначительной, меры. Тьер был верен только своей ненасытной жажде богатства и ненависти к людям, создающим это богатство. Он был беден, как Иов, когда вступил в первый раз в министерство при Луи-Филиппе, а оставил он это министерство миллионером. Возглавляя последний раз министерство при упомянутом короле (с 1 марта 1840 г.), он был публично обвинен в палате депутатов в растрате казенных сумм. В ответ на это обвинение он ограничился тем, что заплакал, — ему немного стоил этот ответ, которым легко отделывались и Жюль Фавр и всякий иной крокодил. В Бордо [В немецком издании 1891 г. после слова «Бордо» вставлено: «в 1871 г.». Ред.] его первой мерой к спасению Франции от грозившего ей финансового краха было назначение себе трехмиллионного годового оклада; это было первым и последним словом той «бережливой республики», перспективы которой он открыл своим парижским избирателям в 1869 году. Один из его бывших коллег по палате депутатов 1830 г., сам капиталист и тем не менее преданный член Парижской Коммуны, г-н Беле, недавно в одной из своих публичных прокламаций обратился к Тьеру со следующими словами:
«Порабощение труда капиталом было всегда краеугольным камнем Вашей политики, и с тех пор как в парижский городской ратуше установлена республика труда, Вы без устали кричите Франции: Вот они, преступники!»
Мастер мелких государственных плутней, виртуоз в вероломстве и предательстве, набивший руку во всевозможных банальных подвохах, низких уловках и гнусном коварстве парламентской борьбы партий; не останавливающийся перед тем, чтобы раздуть революцию, как только слетит с занимаемого поста, и потопить ее в крови, как только захватит власть в свои руки; напичканный классовыми предрассудками вместо идей, вместо сердца наделенный тщеславием, такой же грязный в частной жизни, как гнусный в жизни общественной, даже и теперь, разыгрывая роль французского Суллы, Тьер не может удержаться, чтобы не подчеркнуть мерзости своих деяний своим смешным чванством.
Капитуляция Парижа, отдавшая во власть Пруссии не только Париж, но и всю Францию, закончила собой длинный ряд изменнических интриг с врагом, начатых узурпаторами 4 сентября, по словам самого Трошю, в самый день захвата ими власти. С другой стороны, эта капитуляция положила начало гражданской войне, которую они затем повели при содействии Пруссии против республики и Парижа. Ловушка была уже в самих условиях капитуляции. В тот момент более трети страны было в руках врага, столица была отрезана от провинции, все пути сообщения нарушены. При таких обстоятельствах избрание лиц, которые являлись бы действительными представителями Франции, было невозможно без достаточного времени на подготовку. Именно поэтому в тексте капитуляции и был установлен недельный срок для выборов в Национальное собрание, так что во многих частях Франции известие о предстоящих выборах было получено лишь накануне самих выборов. Далее, согласно особому пункту капитуляции, Собрание должно было быть избрано единственно с целью решения вопроса о мире и войне, а в случае необходимости — и для заключения мирного договора. Население не могло не почувствовать, что условия перемирия делали немыслимым продолжение войны и что для заключения мира, предписанного Бисмарком, лучше всего подходят наихудшие люди Франции. Но, не довольствуясь этими мерами предосторожности и прежде чем тайна перемирия была сообщена Парижу, Тьер предпринял избирательную поездку но всей стране, чтобы оживить труп партии легитимистов[208]; эта партия вместе с орлеанистами должна была заменить ставших в тот момент неприемлемыми бонапартистов. Легитимистов он не боялся. Как правительство современной Франции они были немыслимы, а потому как соперники ничего не значили; вся деятельность этой партии, по словам самого Тьера (в палате депутатов 5 января 1833 г.),
«постоянно держалась на трех столпах; иноземном вторжении, гражданской войне и анархии».
Эта партия поэтому являлась как нельзя более удобным орудием контрреволюции. Легитимисты всерьез уверовали в долгожданное пришествие их прежнего тысячелетнего царства. И в самом деле, сапог иноземного завоевателя снова топтал Францию; империя была опять ниспровергнута и Бонапарт опять попал в плен; легитимисты опять воскресли. Очевидно, колесо истории повернуло вспять, чтобы докатиться до «chambre introuvable» [В немецких изданиях 1871 и 1891 гг. далее следуют слова: «(палата ландратов и юнкеров)». Ред.] 1816 года[209]. В 1848—1851 гг. в национальных собраниях времен республики легитимисты были представлены образованными и искушенными в парламентской борьбе лидерами; теперь выступили на первый план заурядные личности их партии — все Пурсоньяки Франции.
Как только в Бордо собралась эта «помещичья палата»[210], Тьер заявил ей, что она, не удостаиваясь чести вести парламентские прения, немедленно должна принять предварительные условия мира, так как это единственное условие, на котором Пруссия позволит начать войну против республики и ее оплота — Парижа. И в самом деле, контрреволюции некогда было раздумывать. Вторая империя увеличила государственный долг более чем вдвое, все большие города были обременены тяжелыми местными долгами. Война чрезвычайно увеличила задолженность и страшно истощила ресурсы нации. В довершение катастрофы, прусский Шейлок стоял на французской земле со своими квитанциями на провиант для 500-тысячного войска, с требованием уплаты контрибуции в 5 миллиардов и 5 процентов неустойки за просроченные взносы[211]. Кто должен был платить все это? Только посредством насильственного низвержения республики собственники богатства могли свалить тяжесть ими же вызванной войны на плечи производителей этого богатства. Таким образом, невиданное дотоле разорение Франции побудило этих патриотов — представителей земельной собственности и капитала — на глазах и под высоким покровительством чужеземного завоевателя завершить внешнюю войну войной гражданской, бунтом рабовладельцев.
На пути этого заговора стояло одно громадное препятствие— Париж. Разоружение Парижа было первым условием успеха. Вследствие этого Тьер и обратился к Парижу с требованием сложить оружие. Все было сделано, чтобы вывести Париж из терпения: «помещичья палата» разражалась самыми неистовыми антиреспубликанскими воплями; Тьер сам высказывался весьма двусмысленно о законности существования республики; Парижу угрожали обезглавить его и лишить звания столицы; орлеанистов назначали послами; Дюфор провел законы о неоплаченных в срок векселях и квартирной плате[212], законы, грозившие подорвать в корне торговлю и промышленность Парижа; по настоянию Пуйе-Кертье на каждый экземпляр какого бы то ни было издания вводился двухсантимовый налог; Бланки и Флуранс были приговорены к смерти; республиканские газеты запрещены; Национальное собрание перевели в Версаль; осадное положение, объявленное Паликао и снятое событиями 4 сентября, было возобновлено; Винуа, decembriseur[213], был назначен губернатором Парижа, бонапартистский жандарм Валантен — префектом полиции и генерал-иезуит Орель де Паладин — главнокомандующим парижской национальной гвардией.
А теперь мы должны обратиться к г-ну Тьеру и членам правительства национальной обороны, его приказчикам, с вопросом. Известно, что Тьер заключил при посредстве своего министра финансов Пуйе-Кертье заем в два миллиарда. Так вот, правда это или нет:
1) что дельце было устроено таким образом, что несколько сот миллионов «комиссионных» попадали в карманы Тьера, Жюля Фавра, Эрнеста Пикара, Пуйе-Кертье и Жюля Симона?
2) что уплату обязывались произвести только после «умиротворения» Парижа[214]?
Во всяком случае, что-то заставляло их очень торопиться с этим делом, так как Тьер и Жюль Фавр самым бесстыдным образом настаивали от имени большинства Бордоского собрания на немедленном занятии Парижа прусскими войсками. Но это не входило в расчеты Бисмарка, как он, по возвращении в Германию, насмешливо и во всеуслышание рассказал изумленным франкфуртским филистерам.
II
Вооруженный Париж являлся единственным серьезным препятствием на пути контрреволюционного заговора. Стало быть, Париж надо было обезоружить. По этому вопросу бордоская палата высказалась с полнейшей откровенностью. Даже если бы яростный рев депутатов «помещичьей палаты» и не свидетельствовал об этом так ясно, то отдача Парижа Тьером под начало триумвирата из decembriseur Винуа, бонапартистского жандарма Валантена и генерала-иезуита Орель де Паладина не оставляла места ни малейшему сомнению. Нагло заявляя об истинной цели разоружения Парижа, заговорщики требовали от Парижа сдачи оружия под таким предлогом, который являлся самой вопиющей и бесстыдной ложью. Артиллерия парижской национальной гвардии, заявлял Тьер, есть собственность государства, а посему должна быть возвращена государству. На самом же деле факты были таковы: Париж был на страже с самого дня капитуляции, по которой пленники Бисмарка выдали ему Францию, выговорив для себя значительную личную охрану с очевидной целью усмирения Парижа. Национальная гвардия реорганизовалась и поручила верховное командование Центральному комитету, избранному всей массой национальных гвардейцев, за исключением кое-каких остатков старых бонапартистских формирований. Накануне вступления пруссаков в Париж Центральный комитет принял меры к перевозке на Монмартр, в Бельвиль и Ла-Виллет пушек и митральез, изменнически оставленных capitulards именно в тех кварталах, в которые должны были вступить пруссаки, или в кварталах, прилегающих к ним. Эта артиллерия была создана на суммы, собранные самой национальной гвардией. В тексте капитуляции 28 января она была официально признана частной собственностью национальной гвардии и как таковая не была включена в общую массу государственного оружия, подлежавшего выдаче победителю. Тьер не имел ни малейшего повода начать войну против Парижа и потому он должен был прибегнуть к наглой лжи, будто артиллерия национальной гвардии являлась государственной собственностью!
Захват артиллерии должен был послужить, очевидно, только началом всеобщего разоружения Парижа, а следовательно, и разоружения революции 4 сентября. Но эта революция стала узаконенным состоянием Франции. Республику, результат этой революции, признал победитель в тексте капитуляции. После капитуляции ее признали все иностранные державы; от ее имени было созвано Национальное собрание. Единственным законным основанием бордоского Национального собрания и его исполнительной власти являлась революция парижских рабочих 4 сентября. Если бы не революция 4 сентября, это Национальное собрание немедленно должно было бы уступить свое место Законодательному корпусу, который был избран в 1869 г. на основе всеобщего избирательного права