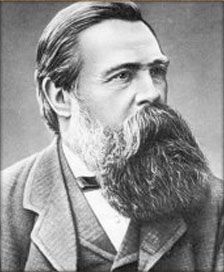материализма.
Настоящий родоначальник английского материализма — это Бэкон. Естествознание является в его глазах истинной наукой, а физика, опирающаяся на чувственный опыт, — важнейшей частью естествознания. Анаксагор с его гомеомериями[297] и Демокрит с его атомами часто приводятся им как авторитеты. Согласно его учению, чувства непогрешимы и составляют источник всякого знания. Наука есть опытная наука и состоит в применении рационального метода к чувственным данным. Индукция, анализ, сравнение, наблюдение, эксперимент суть главные условия рационального метода. Первым и самым важным из прирожденных свойств материи является движение, — не только как механическое и математическое движение, но еще больше как стремление, жизненный дух, напряжение, или, употребляя выражение Якоба Бёме, «мука» [ «Qual»] [ «Qual» — это философская игра слов. «Qual» буквально означает мучение, боль, которая толкает на какое-нибудь действие; в то же самое время мистик Бёме вносит в это немецкое слово и нечто от латинского слова qualitas [качество]; его «Qual» — это в противоположность боли, причиняемой извне, активное начало, возникающее из самопроизвольного развития вещи, отношения или личности, которые подвержены «Qual», и, в свою очередь, вызывающее к жизни это развитие. [В немецком тексте это примечание Энгельсом не дано. Ред.].] материи [В немецком тексте после слова «материи» воспроизводится следующая опущенная в английском издании фраза из «Святого семейства»: «Первичные формы материи суть живые, индивидуализирующие, внутренне присущие ей, создающие специфические различия, сущностные силы». Ред.].
У Бэкона, как первого своего творца, материализм таит еще в себе в наивной форме зародыши всестороннего развития. Материя улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку. Само же учение, изложенное в форме афоризмов, еще кишит, напротив, теологическими непоследовательностями.
В своем дальнейшем развитии материализм становится односторонним. Гоббс является систематиком бэконовского материализма. Чувственность теряет свои яркие краски и превращается в абстрактную чувственность геометра [В немецком тексте далее воспроизводятся следующие опущенные в английском издании слова: «Физическое движение приносится в жертву механическому или математическому движению». Ред.]. Геометрия провозглашается главной наукой. Материализм становится враждебным человеку. Чтобы преодолеть враждебный человеку бесплотный дух в его собственной области, материализму приходится самому умертвить свою плоть и сделаться аскетом. Он выступает как рассудочное существо, но зато с беспощадной последовательностью развивает все выводы рассудка.
Если наши чувства являются источником всех наших знаний, — рассуждает Гоббс, отправляясь от Бэкона, — то идея, мысль, представление и т. д. — все это не что иное, как фантомы телесного мира, освобожденного в большей или меньшей степени от своей чувственной формы. Наука может только дать названия этим фантомам. Одно и то же название может быть применено ко многим фантомам. Могут даже существовать названия названий. Но было бы противоречием, с одной стороны, видеть в чувственном мире источник всех идей, с другой же стороны — утверждать, что слово есть нечто большее, чем только слово, что, кроме представляемых нами всегда единичных сущностей, имеются еще какие-то всеобщие сущности. Бестелесная субстанция — это такое же противоречие, как бестелесное тело. Тело, бытие, субстанция — все это одна и та же реальная идея. Нельзя отделить мышление от материи, которая мыслит. Материя является субъектом всех изменений. Слово бесконечный — бессмысленно, если оно не означает способности нашего духа без конца прибавлять к какой-нибудь данной величине. Так как только материальное воспринимаемо, познаваемо, то ничего не известно о существовании бога. Только мое собственное существование достоверно. Всякая человеческая страсть есть кончающееся или начинающееся механическое движение. Объекты стремлений — вот то, что мы называем благом. Человек подчинен тем же законам, что и природа. Могущество и свобода — тождественны.
Гоббс систематизировал Бэкона, но не дал более детального обоснования его основному принципу — происхождению знаний и идей из мира чувств. Локк обосновывает принцип Бэкона и Гоббса в своем сочинении о происхождении человеческого разума[298].
Как Гоббс уничтожил теистические предрассудки бэконовского материализма, так Коллинз, Додуэлл, Кауард, Гартли, Пристли и т. д. уничтожили последние теологические границы локковского сенсуализма. Деизм[299] — по крайней мере для материалиста — есть не более, как удобный и легкий способ отделаться от религии» [Маркс и Энгельс. «Святое семейство», Франкфурт-на-М. 1845, стр. 201–204[300].].
Так писал Карл Маркс о британском происхождении современного материализма. И если в настоящее время англичане не чувствуют себя особенно польщенными этим признанием заслуг их предков, то об этом можно только пожалеть. Нельзя все же отрицать, что Бэкон, Гоббс и Локк были отцами той блестящей школы французских материалистов, которые, несмотря на все победы, одержанные немцами и англичанами на суше и на море над французами, сделали XVIII век преимущественно французским веком, и это — задолго до той венчающей конец этого века французской революции, результаты которой мы как в Англии, так и в Германии все еще стремимся акклиматизировать у себя.
Этого никак нельзя отрицать. Когда образованный иностранец переезжал в середине нашего столетия на жительство в Англию, то более всего его поражали — иначе он и не мог воспринять это — религиозное ханжество и тупость английского респектабельного среднего класса. Мы были тогда все материалистами или, по меньшей мере, очень радикальными вольнодумцами, и для нас был непонятен тот факт, что почти все образованные люди в Англии верили во всевозможные невероятные чудеса и что даже геологи, подобно Бакленду и Мантеллу, извращали данные своей науки, дабы они не слишком сильно били по мифам Книги бытия. Казалось непостижимым то, что надо было идти к необразованной массе, к «неумытой толпе», как тогда выражались, — к рабочим, особенно к социалистам, последователям Оуэна, для того чтобы найти людей, осмеливавшихся в религиозных вопросах опираться на собственный разум.
Но с того времени Англия «цивилизовалась». Выставка 1851 г.[301] прозвучала похоронным звоном для английской островной замкнутости. Англия постепенно интернационализировалась в пище, манерах, идеях; она достигла в этом таких успехов, что мне все больше хочется выразить пожелание, чтобы некоторые английские манеры и обычаи нашли себе на континенте такое же всеобщее применение, какое нашли в Англии некоторые обычаи континента. Несомненно одно: распространение прованского масла (до 1851 г. известного только аристократии) сопровождалось роковым распространением континентального скептицизма в религиозных вопросах; дошло до того, что агностицизм, хотя он еще и не считается «первосортной вещью», вроде английской государственной церкви, стоит все же в отношении респектабельности почти на одной ступени с сектой баптистов и во всяком случае рангом выше «Армии спасения»[302]. И я не могу освободиться от мысли, что многим, кто всем сердцем сокрушается по поводу этого прогресса неверия и проклинает его, будет утешительно узнать, что эти «новоиспеченные идеи» не чужеземного происхождения, не носят на себе марки made in Germany [сделано в Германии. Ред.] подобно множеству других предметов повседневного обихода; что они, напротив, староанглийского происхождения и что их британские родоначальники двести лет тому назад заходили гораздо дальше, чем на это осмеливаются их нынешние потомки.
Действительно, что такое агностицизм, как не «стыдливый», употребляя выразительное ланкаширское слово [В немецком тексте слова «употребляя выразительное ланкаширское слово» опущены. Ред.], материализм? Взгляд агностика на природу насквозь материалистичен. Весь естественный мир управляется законами и абсолютно исключает всякое воздействие извне. Но, добавляет агностик, — мы не в состоянии ни доказать, ни опровергнуть существование какого-либо высшего существа вне известного нам мира. Эта оговорка могла иметь известную ценность в те времена, когда Лаплас на вопрос Наполеона, — почему в «Небесной механике»[303] этого великого астронома даже не упомянуто имя творца мира, дал гордый ответ: «Je n’avais pas besoin de cette hypothese» [ «У меня не было надобности в этой гипотезе». Ред.]. В настоящее же время наше представление о развитии вселенной совершенно не оставляет места ни для творца, ни для вседержителя. Но если захотели бы признать некое высшее существо, исключенное из всего существующего мира, то это само по себе было бы противоречием и к тому же, как мне кажется, незаслуженным оскорблением чувств религиозных людей.
Наш агностик соглашается также, что все наше знание основано на тех сообщениях, которые мы получаем через посредство наших чувств. Но, добавляет он, откуда мы знаем, что наши чувства дают нам верные изображения воспринимаемых ими вещей? И, далее, он сообщает нам, что когда он говорит о вещах или их свойствах, то он в действительности имеет в виду не самые эти вещи или их свойства, о которых он ничего достоверного знать не может, а лишь те впечатления, которые они произвели на его чувства. Слов нет, это такая точка зрения, которую трудно, по-видимому, опровергнуть одной только аргументацией. Но прежде чем люди стали аргументировать, они действовали. «In Anfang war die That» [ «В начале было дело» (Гёте. «Фауст», часть I, сцена третья («Кабинет Фауста»)). Ред.]. И человеческая деятельность разрешила это затруднение задолго до того, как человеческое мудрствование выдумало его. Проверка пуддинга состоит в том, что его съедают [В немецком тексте этот афоризм приведен на английском языке: The proof of the pudding is in the eating. Ред.]. В тот момент, когда сообразно воспринимаемым нами свойствам какой-либо вещи мы употребляем ее для себя, — мы в этот самый момент подвергаем безошибочному испытанию истинность или ложность наших чувственных восприятий. Если эти восприятия были ложны, то и наше суждение о возможности использовать данную вещь необходимо будет ложно, и всякая попытка такого использования неизбежно приведет к неудаче. Но если мы достигнем нашей цели, если мы найдем, что вещь соответствует нашему представлению о ней, что она дает тот результат, какого мы ожидали от ее употребления, — тогда мы имеем положительное доказательство, что в этих границах наши восприятия о вещи и ее свойствах совпадают с существующей вне нас действительностью. Если же, наоборот, мы найдем, что сделали ошибку, тогда большей частью в скором времени мы умеем находить причину этой ошибки; мы находим, что восприятие, легшее в основу нашего испытания, либо само было неполно и поверхностно, либо было связано с результатами других восприятий таким образом, который не оправдывается положением дела; это мы называем ложным умозаключением [В немецком тексте слова «это мы называем ложным умозаключением» опущены. Ред.]. До тех же пор, пока мы как следует развиваем наши чувства и пользуемся ими, пока мы держим свою деятельность в границах, поставленных правильно полученными и использованными восприятиями, — до тех пор мы всегда будем находить, что успех наших действий дает доказательство соответствия наших восприятий с предметной природой воспринимаемых вещей. Нет ни единого случая, насколько нам известно до сих пор, когда бы мы вынуждены были заключить, что наши научно