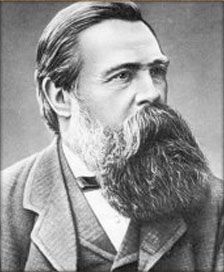Словом, новая история, это — борьба не на жизнь, а на смерть против лавочников и магнетизёров!!!» (стр. 311).
«Счастье, это — плюс, но плюс в иксовой степени» (стр. 203).
Итак, счастье = +х такая формула встречается только в эстетической математике господина Грюна.
«Что такое организация труда? И народы ответили сфинксу тысячью газетных голосов… Франция поёт строфу, а Германия — старая, мистическая Германия — антистрофу» (стр. 259).
«Северная Америка мне даже противнее, чем Старый свет, потому что эгоизм этого мира лавочников пышет красным цветом наглого здоровья… потому что всё там так поверхностно, так беспочвенно, я готов даже сказать — так провинциально… Вы называете Америку Новым миром; это — самый старый из всех старых миров. Наши поношенные платья считаются там парадной одеждой» (стр. 101, 324).
До сих пор было известно, что носят там — неношенные немецкие чулки, хоть они и слишком плохи для «парадной» одежды.
«Логически-твёрдый гарантизм этих учреждений» (стр. 461).
Кого не радуют подобные цветы,
Быть не достоин, право, «человеком»![138]
Какая грациозная резвость! Какая задорная наивность! Какое героическое плавание в море эстетики! Какая гейневская небрежность и гениальность!
Мы обманули читателя. Беллетристика господина Грюна вовсе не является украшением науки «истинного социализма», наука же лишь заполняет пустоты этой беллетристической болтовни. Она образует, так сказать, её «социальный фон».
В одном очерке господина Грюна: «Фейербах и социалисты» («Deutsches Burgerbuch», стр. 74), встречается следующее утверждение:
«Когда называют Фейербаха, тем самым называют всю работу философии от Бэкона Веруламского до нашего времени; тем самым указывают также, чего хочет и что означает в последнем счёте философия, указывают на человека как на последний результат всемирной истории. И это более надёжный — ибо это и более основательный — подход к делу, чем разглагольствования о заработной плате, о конкуренции, неудовлетворительности конституций и государственных порядков… Мы обрели Человека, человека, который избавился от религии, от мёртвых мыслей, от всего чуждого ему и от всех вытекающих отсюда практических последствий. Мы обрели чистого, истинного человека».
Одной этой фразы достаточно, чтобы выяснить степень «основательности» и «надёжности», которую можно искать у господина Грюна. В мелкие вопросы он не вдаётся. Вооружённый непоколебимой верой в результаты немецкой философии, как они даны у Фейербаха, а именно, что «Человек», «чистый, истинный человек» есть якобы конечная цель всемирной истории, что религия есть отчуждённая человеческая сущность, что человеческая сущность есть человеческая сущность и мера всех вещей; вооружённый прочими истинами немецкого социализма (смотри выше), гласящими, что и деньги, наёмный труд и т. д. представляют собою отчуждения человеческой сущности, что немецкий социализм есть осуществление немецкой философии и теоретическая истина зарубежного социализма и коммунизма и т. д., — вооружённый всем этим, господин Грюн уезжает в Брюссель и Париж, преисполнившись самодовольства «истинного социализма».
Мощные трубные звуки, которыми господин Грюн славит социализм и немецкую науку, превосходят всё, что сделано в этом отношении остальными его единоверцами. Что касается «истинного социализма», то эти восхваления исходят, очевидно, из самых глубин сердца. Скромность господина Грюна не позволяет ему высказать ни одного положения, которое не было бы уже высказано каким-либо иным «истинным социалистом» до него в «Двадцать одном листе», «Burgerbuch» и «Neue Anekdota». Да и вся его книга преследует единственную цель — заполнить схему конструкции французского социального движения, которую Гесс дал в «Двадцать одном листе», стр. 74–88, и удовлетворить, таким образом, потребность, указанную там же на стр. 88. Что же касается прославления немецкой философии, то последняя должна ему быть за это тем больше благодарна, чем меньше он её знает. Национальная гордость «истинных социалистов», гордость Германией как страной «Человека», «сущности человека», — по сравнению с другими заурядными национальностями, — достигает у него кульминационной точки. Приведём тут же несколько примеров:
«Но я хотел бы знать, не должны ли все они, французы и англичане, бельгийцы и североамериканцы, поучиться ещё у нас» (стр. 28).
В дальнейшем эта мысль развивается так:
«Североамериканцы представляются мне насквозь прозаическими и, несмотря на всю предоставляемую их законами свободу, они должны учиться социализму только у нас» (стр. 101).
Особенно после того, как у них с 1829 г. имеется собственная социалистически-демократическая школа, против которой их экономист Купер боролся уже в 1830 году.
«Бельгийские демократы! Неужели ты думаешь, что они ушли хоть наполовину так далеко, как мы, немцы? У меня была схватка с одним из них, который считает химерой осуществление свободного человечества!» (стр. 22).
Здесь национальность «Человека», «сущности человека», «человечества» кичливо выступает перед бельгийской национальностью.
«Французы, оставьте Гегеля в покое до тех пор, пока вы не поймёте его». (Мы думаем, что та, очень слабая сама по себе, критика философии права, которую дал Лерминье, обнаруживает больше понимания Гегеля, чем всё, что писал когда-нибудь господин Грюн под собственным ли именем или как «Ernst von der Haide».{363}) «He пейте в течение года ни кофе, ни вина; не разгорячайте Своего духа никакой возбуждающей страстью; предоставьте Гизо управлять и верните Алжир под владычество Марокко» (как мог бы Алжир вернуться когда-либо под владычество Марокко, даже если бы французы отказались от него!); «сидите где-нибудь в мансарде и штудируйте «Логику», а вместе с ней и «Феноменологию». Когда, по истечении годичного срока, похудевши, с красными глазами, Вы спуститесь на улицу и споткнётесь о первого встречного щеголя или общественного глашатая, то но смущайтесь. Ибо за это время Вы стали великими, могучими людьми, Ваш дух уподобился дубу, питаемому чудотворными» (!) «соками; все, на что Вы ни посмотрите, открывает перед Вами свои, наиболее глубоко скрытые изъяны; хотя Вы и сотворённые духи, Вы всё же проникаете внутрь природы; Ваш взор испепеляет, Ваше слово передвигает горы, Ваша диалектика острое, чем острейшая гильотина. Вы являетесь в Ратушу — и буржуазии как но бывало. Вы входите в Бурбонский дворец — и он распадается, вся его палата депутатов растворяется в nihilum album{364}, Гизо исчезает, Луи-Филипп тускнеет и превращается в историческую схему, и из руин всех этих погибших моментов возносится горделиво и победоносно абсолютная идея свободного общества. Без шуток, Гегеля Вы можете победить, только если сами раньше станете Гегелем. Как я уже сказал выше: возлюбленная Моора может умереть только от его руки» (стр. 115, 116).
Всякому тотчас ударит в нос беллетристический душок, исходящий от этих положений «истинного социализма». Как и все «истинные социалисты», господин Грюн не забывает преподнести нам снова старую болтовню о поверхностности французов:
«Судьба обрекла меня на то, чтобы всякий раз, когда я наблюдаю вблизи французский дух, видеть его недостаточность и поверхностность» (стр. 371).
Господин Грюн не скрывает от нас, что книга его имеет целью возвеличить немецкий социализм как критику французского социализма:
«Плебс современной германской литературы упрекал наши социалистические стремления в том, что они являются подражанием французским безрассудствам. Никто до сих пор не счёл нужным ответить на это хотя бы единым звуком. Прочтя настоящую книгу, этот плебс должен будет устыдиться, если только у него осталось ещё чувство стыда. Ему, вероятно, и в голову не приходило, что немецкий социализм есть критика французского, что он не только не считает французов изобретателями нового «Общественного договора», потребует, наоборот, чтобы они нашли себе восполнение в немецкой науке. В настоящий момент здесь в Париже предпринимается издание перевода фейербаховской «Сущности христианства». Пусть пойдёт французам на пользу немецкая школа! К чему бы ни привело экономическое положение страны, её текущая политическая конъюнктура, во всяком случае путь, ведущий к человеческой жизни в будущем, может быть открыт лишь гуманистическим мировоззрением. Неполитический, отверженный немецкий народ, этот народ, который даже нельзя назвать народом, заложил краеугольный камень здания будущего» (стр. 353).
Конечно, «истинному социалисту», столь интимно знакомому с «сущностью человека», нет нужды знать, к чему приведут данную страну «её экономическое положение и политические обстоятельства».
Как апостол «истинного социализма», господин Грюн не довольствуется тем, что, подобно своим соапостолам, противопоставляет невежеству других народов всеведение немцев. Он использует свою старую литературную практику, он самым бесцеремонным образом, как это характерно для шатающегося по свету туриста, навязывает себя представителям различных социалистических, демократических и коммунистических партий и, обнюхав их предварительно со всех сторон, выступает перед ними в роли апостола «истинного социализма». Его единственная задача — поучать их, сообщать им глубочайшие откровения относительно свободного человечества. Превосходство «истинного социализма» над политическими партиями Франции превращается здесь в личное превосходство господина Грюна над представителями этих партий. А под конец это даже даёт возможность не только превратить вождей французских партий в пьедестал для господина Грюна, но и извлечь на свет божий массу всякого рода сплетен, которые должны вознаградить немецкого провинциала за усилия, потраченные им на усвоение столь содержательных положений «истинного социализма».
«Всё лицо Катса изобразило плебейскую радость, когда я засвидетельствовал ему моё полное удовлетворение его речью» (стр. 50).
Господин Грюн тотчас же стал просвещать Катса насчёт французского терроризма и «был счастлив, добившись одобрения у своего нового друга» (стр. 51).
Ещё гораздо более значительным оказалось его влияние на Прудона:
«Я имел огромное удовольствие быть в некотором роде приват-доцентом человека, острота ума которого не была, быть может, превзойдена со времён Лессинга и Канта» (стр. 404).
Луи Блан — всего лишь «его чумазый мальчуган» (стр. 314).
«Он стал расспрашивать с большим интересом, но в то же время с большой неосведомлённостью, о положении дел у нас. Мы, немцы, знаем» (?) «французские дела почти так же хорошо, как сами французы; по крайней мере, мы изучаем» (?) «их» (стр. 315).
А про «папашу Кабе» мы узнаём, что он «ограничен» (стр. 382). Господин Грюн задаёт ему вопросы, и Кабе вынужден «признаться, что он не очень в них углублялся. Я» (Грюн) «заметил это давно, и тогда, конечно, всё окончилось, тем более, что я вспомнил, что миссия Кабе давно уже завершена» (стр. 383).