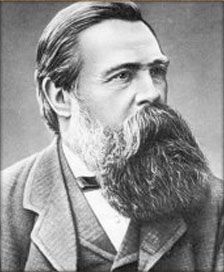наслаждением и силой, доставляющей возможность наслаждения. Я могу обладать большой личной силой (способностью) наслаждаться, не обладая, однако, соответствующей вещественной силой (деньгами и т. д.). И, таким образом, моё реальное «наслаждение» всё ещё продолжает оставаться гипотетическим.
«Если королевское дитя ставит себя выше других детей, — продолжает наш школьный наставник, пользуясь подходящими для детской хрестоматии примерами, — это есть уже его деяние, обеспечивающее его превосходство, и если другие дети признают и одобряют это деяние, то это — их деяние, делающее их достойными положения подданных» (стр. 250).
В этом примере общественное отношение, в котором королевское дитя находится к другим детям, рассматривается как сила королевского ребёнка — и притом как его личная сила — и как бессилие других детей. Если рассматривать как «деяние» других детей то, что они позволяют командовать над собой
королевскому ребёнку, то это в лучшем случае доказывает только то, что они эгоисты. «Особенность делает своё дело в маленьких эгоистах» и побуждает их эксплуатировать королевское дитя, извлекать из него выгоду.
«Говорят» (т. е. Гегель говорит), «что наказание составляет право преступника. Но и безнаказанность также составляет его право. Удаётся ему задуманное дело — он прав, а не удаётся — тоже прав. Когда кто-нибудь с безумной отвагой пускается на опасные дела и погибает при этом, мы говорим: поделом ему, он этого и хотел. Когда же он побеждает опасности, т. е. когда побеждает его сила, он также оказывается правым. Если ребёнок, играя ножом, порежется, то поделом ему; если же он не порежется, — то и это хорошо. Поэтому поделом преступнику, если он страдает из-за своего рискованного поступка: зачем он шёл на риск, зная, какие могут быть последствия?» (стр. 255).
В заключительных словах этого положения, в обращённом к преступнику вопросе, почему он шёл на риск, сосредоточена в скрытом виде бессмыслица всей фразы, поистине достойная школьного наставника. Поделом ли преступнику, который, пробираясь в какой-нибудь дом, упал и сломал себе ногу, или ребёнку, который порезался, — при рассмотрении всех этих важных вопросов, которыми способен заниматься только такой человек, как святой Санчо, достигаемый результат сводится к следующему: случай объявляется Моей силой. Таким образом, «Моей силой» было в первом примере Моё поведение, во втором — независимые от меня общественные отношения, в третьем — случай. Впрочем, в главе об особенности мы уже встречались с подобного рода противоречивыми определениями.
К вышеприведённым примерам из хрестоматии для детей Санчо присоединяет ещё следующую забавную прибаутку:
«Ведь в противном случае право оказалось бы чем-то произвольным. Тигр, набрасывающийся на Меня, прав, и Я, убивающий его, тоже прав. Я охраняю от него не Своё право, а Себя» (стр. 250).
В первой части этого предложения святой Санчо становится в правовое отношение к тигру, а во второй части он догадывается, что здесь в сущности нет никакого правового отношения. Поэтому-то «право оказывается чем-то произвольным». Право «Человека» растворяется в праве «Тигра».
Этим заканчивается критика права. После того как мы уже давно узнали от сотни более ранних писателей, что право возникло из насилия, теперь мы узнаём от святого Санчо, что «право» есть «насилие Человека», чем он благополучно устранил все вопросы о связи права с действительными людьми и их отношениями и смастерил свою антитезу. Он ограничивается тем, что упраздняет право в том виде, в каком он его полагает, а именно — в качестве Святого, т. е. упраздняет Святое, а право оставляет нетронутым.
Эта критика права украшена множеством эпизодов — болтовнёй о всякого рода вещах, по поводу которых «обыкновенно» толкуют у Штехели[95] от двух до четырёх после обеда.
Эпизод 1. — «Право человека» и «благоприобретённое право».
«Когда революция провозгласила «равенство» «правом», — она нашла убежище в религиозной области, в области Святого, Идеала. Поэтому-то и идёт с тех пор борьба из-за святых, неотчуждаемых прав человека. Вечному праву человека вполне естественно и равноправно противопоставляется «благоприобретённое право существующего», право против права, причём, конечно, каждая из обеих сторон клеймит другую как бесправие. Таков спор о праве со времени революции» (стр. 248).
Сперва Санчо повторяет своё положение, что права человека представляют собой «Святое» и что поэтому-то и идёт с тех пор борьба за права человека. Этим святой Санчо доказывает только, что материальный базис этой борьбы остался для него святым, т. е. чуждым.
Так как и «право человека» и «благоприобретённое право» — оба являются «правами», то они «одинаково правомерны», и. к тому же на этот раз «правомерны» в историческом смысле слова. Так как оба они являются «правами» в юридическом смысле, то они «одинаково правомерны» в историческом смысле. Подобным способом можно в кратчайший срок разделаться с чем угодно, не имея ни малейшего представления о сути дела. Так, например, можно по поводу борьбы вокруг хлебных законов в Англии сказать: против прибыли (выгоды) фабрикантов «вполне естественно и равноправно» «выдвигается» рента, которая также является прибылью (выгодой). Выгода— против выгоды, «причём, конечно, каждая из обеих сторон клеймит другую. Такова борьба» вокруг хлебных законов в Англии с 1815 года. — Впрочем, Штирнер мог бы с самого начала сказать: существующее право есть право Человека, человеческое право. «Обыкновенно» его называют в некоторых кругах также «благоприобретённым правом». Где же тогда разница между «правом человека» и «благоприобретённым правом»?
Мы уже знаем, что чужое, святое право есть то, что мне даётся чужими. Но так как права человека называются также естественными, прирождёнными правами: и так как для святого Санчо название и есть самая вещь, то, следовательно, они и даны мне от природы, т. е. от рождения.
Но «благоприобретённые права сводятся к тому же самому, а именно — к природе, дающей Мне право, т. е. к рождению и, далее, к наследству» и так далее. «Я рождён в качестве человека — это всё равно что сказать: я рожден в качестве королевского сына».
Об этом говорится на стр. 249, 250, где, между прочим, Бабёфу ставится в вину, что он не обладал таким диалектическим талантом растворять различия. Так как «Я» «при всех обстоятельствах» есть «также» и человек, как соглашается позже святой Санчо, и так как этому Я идёт, стало быть, на пользу «также» всё то, что оно имеет в качестве человека, — например, в качестве берлинца ему идёт на пользу берлинский Тиргартен — то ему «также» «при всех обстоятельствах» идёт на пользу право человека. Но так как он отнюдь не «при всех обстоятельствах» рождается в качестве «королевского сына», то отнюдь нельзя сказать, что ему «при всех обстоятельствах» идёт на пользу «благоприобретённое право». Поэтому на почве права имеется существенное различие между «правом человека» и «благоприобретённым правом». Если бы Санчо не должен был скрывать своей логики, то «здесь следовало бы сказать»: После того как Я, по Моему мнению, растворил понятие права так, как Я вообще имею «обыкновение» растворять понятия, — после этого борьба из-за этих двух особых видов права становится борьбой в пределах растворённого Мною, в Моём мнении, понятия и «поэтому» может в дальнейшем быть оставлена Мною в покое.
Для большей основательности святой Санчо мог бы прибавить ещё следующее новое превращение: Право человека тоже приобретено и, значит, благоприобретено, а благоприобретённое право, это — принадлежащее людям человеческое право, право человека.
Что подобные понятия, если оторвать их от лежащей в их основе эмпирической действительности, можно выворачивать наизнанку, как перчатку, — это достаточно отчётливо доказано уже Гегелем, у которого применение этого метода, в противовес абстрактным идеологам, было правомерно. Поэтому святому Санчо вовсе незачем было придавать ему своими «неуклюжими» «махинациями» смешной вид.
До сих пор благоприобретённое право и право человека «сводились к одному и тому же» для того, чтобы святой Санчо имел возможность превратить в Ничто борьбу, существующую вне его головы — существующую в истории. Теперь наш святой доказывает, что он столь же остроумен в тонких различениях, как и всемогущ в своём искусстве сваливать всё в одну кучу, чтобы иметь возможность вызвать в «творческом Ничто» своей головы новую страшную борьбу.
«Я готов также согласиться» (великодушный Санчо), «что каждый рождается человеком» (а значит, согласно вышеприведённому упрёку по адресу Бабёфа, также и «королевским сыном»), «и, стало быть, новорождённые равны в этом отношении друг другу… и это только потому, что они обнаруживают и проявляют себя не иначе, как всего лишь просто-человеческие дети, как голые человечки». Наоборот, взрослые — «детища своего собственного творчества». Они «обладают чем-то большим, чем прирождённые права, они приобрели права». (Неужели Штирнер думает, что ребёнок выходит из материнского чрева без своего собственного деяния, — деяния, благодаря которому он только и приобретает «право» быть вне материнского чрева, и неужели каждый ребёнок не проявляет и не обнаруживает себя с самого начала как «единственный» ребёнок?) «Какая противоположность, какое поле брани! Старая борьба прирождённых прав и благоприобретенных прав!» (стр. 252).
Какая борьба бородатых мужей с грудными младенцами!
Впрочем, Санчо ратует против прав человека лишь потому, что «в новейшее время» снова «стало обычным» говорить против них. В действительности же он «приобрёл» себе и эти прирождённые права человека. В главе об особенности мы уже имели «прирожденного свободного», — Санчо превратил там особенность в прирождённое право человека тем, что в качестве просто рождённого уже проявил и показал себя свободным. Более того: «Каждое Я — уже от рождения преступник против государства», государственное преступление становится прирождённым правом