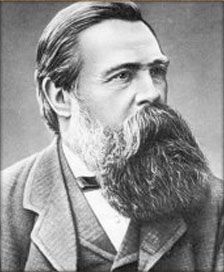Наш берлинский простак не знает, что налог в пользу бедных в Англии и Ирландии есть местный налог, имеющий различные размеры в разных городах и в разные годы, так что просто невозможно было бы связать какое-нибудь право с уплатой этого налога в определённом размере. Наконец, Санчо думает, будто английский и ирландский налог в пользу бедных, это — «милостыня»; в действительности же эти деньги служат средством для прямой и открытой наступательной войны, которую господствующая буржуазия ведёт против пролетариата. Из них покрываются расходы на содержание работных домов, которые, как известно, являются мальтузианским средством для отпугивания от пауперизма. Мы видим, как Санчо «переносится из лона любви в пустынное море определений».
Заметим мимоходом, что немецкая философия, вследствие того, что единственной исходной точкой она считала сознание, неизбежно должна была завершиться моральной философией, где различные герои ломают копья из-за истинной морали. Фейербах любит человека во имя человека, святой Бруно любит его потому, что он этого «заслуживает» (Виганд, стр. 137), а святой Санчо, проникнутый сознанием своего эгоизма, любит «каждого», ибо так ему угодно («Книга», стр. 387).
Мы уже видели выше — в первом рассуждении, — как мелкие земельные собственники, исполненные уважения, выключили себя из крупной земельной собственности. Это самоисключение из чужой собственности, из-за почтения к ней, изображается вообще как характерная особенность буржуазной собственности. Из этой особенности Штирнер умудряется объяснить себе, почему
«внутри буржуазного строя, несмотря на то, что согласно его принципу каждый должен быть собственником, большинство не имеет ровным счётом ничего» (стр. 348). Это «происходит оттого, что большинство радуется уже одной возможности быть вообще владельцами, хотя бы только какой-нибудь пары тряпок» (стр. 349).
Что «большинство людей» обладает лишь «какой-нибудь парой тряпок», Шелига считает вполне естественным последствием их любви к тряпкам.
Стр. 343: «Итак, я всего лишь владелец? Нет, это до сих пор были владельцы, которые обеспечивали себе обладание своим клочком земли тем, что позволяли и другим владеть каким-нибудь клочком; теперь же всё принадлежит Мне, Я — собственник всего, в чём Я нуждаюсь и чем Я могу овладеть».
Подобно тому как выше Санчо заставил мелких земельных собственников почтительно выключить себя из крупной собственности, а теперь заставляет каждого из них выключить себя из собственности другого, — так он мог бы далее, переходя к деталям, выключить торговую собственность из земельной, фабричную из собственно торговой и т. д., — всё это на основе уважения — и прийти таким образом к совершенно новой политической экономии на базе Святого. И тогда ему останется только выбить из головы уважение, чтобы одним ударом покончить с разделением труда и вытекающей отсюда формой собственности. Образец этой новой политической экономии Санчо даёт на стр. 128 «Книги», где он покупает иголку не у shopkeeper{275}, а у уважения, не на деньги, уплачиваемые shopkeeper, а на уважение, которым он платит иголке. Впрочем, догматическое самовыключение каждого индивида из чужой собственности, с которым воюет Санчо, это — чисто юридическая иллюзия. При современном способе производства и общения каждый наносит удары этой иллюзии, думая как раз о том, как бы выключить всех других индивидов из принадлежащей им собственности. Как дело обстоит со штирнеровской «собственностью на всё», — ясно уже из придаточного предложения: «в чём Я нуждаюсь и чем Я могу овладеть». Он сам разъясняет это подробно на стр. 353: «Если Я скажу: Мне принадлежит мир, то это, собственно говоря, тоже пустая болтовня, имеющая смысл лишь постольку, поскольку Я не уважаю чужой собственности», т. е. поскольку неуважение к чужой собственности составляет его собственность.
Столь дорогая сердцу нашего Санчо частная собственность огорчает его именно своей исключительностью, без которой она была бы бессмыслицей, — его огорчает тот факт, что помимо него имеются ещё другие частные собственники. Ведь чужая частная собственность священна. Мы увидим, каким образом он в своём «Союзе» справляется с этим бедствием: мы убедимся, что его эгоистическая собственность, собственность в необыкновенном смысле, есть не что иное, как преображённая его всеосвящающей фантазией обыкновенная, или буржуазная, собственность.
Закончим следующей соломоновой мудростью: «Если люди достигнут того, что они потеряют уважение к собственности, то каждый будет обладать собственностью… тогда [союзы и в этом отношении умножат средства отдельного индивида и обеспечат его завоеванную собственность» (стр. 342)].{276}
[Рассуждение № 3. О конкуренции в обыкновенном и необыкновенном смысле.] Однажды утром автор этого рассуждения, нарядившись в подобающий костюм, отправился к г-ну министру Эйххорну:
«Так как с фабрикантом ничего не выходит» (так как г-н министр финансов не дал ему ни места, ни денег для постройки собственной фабрики, а г-н министр юстиции не разрешил отнять фабрику у фабриканта — смотри выше главу о буржуазной собственности), «то Я решил конкурировать вон с тем профессором права; он ведь простофиля, и Я, знающий во сто раз больше, чем он, добьюсь, что его аудитория опустеет». — «Но, друг мой, учился ли Ты в университете и получил ли ты учёную степень?» — «Нет, но что же из этого? Я полностью овладел теми познаниями, которые необходимы для преподавательской деятельности». — «Мне очень жаль, но в этом деле нет свободы конкуренции. Я не имею ничего против тебя лично, но не хватает самого существенного — докторского диплома, а Я, государство, требую диплом». — «Так вот какова, значит, свобода конкуренции, — вздохнул автор, — лишь государство, Мой господин, даёт мне возможность конкурировать». После чего, удручённый, он вернулся к себе домой (стр. 347).
В развитых странах ему бы не пришло в голову испрашивать у государства разрешения конкурировать с профессором права. Но раз он обращается к государству как к работодателю и требует у пего вознаграждения, т. е. заработной платы, следовательно сам вступает в отношения конкуренции, то после его известных уже нам рассуждений о частной собственности и privati{277}, общинной собственности, пролетариате, lettres patentes{278}, государстве и status{279} и т. д. вряд ли можно предполагать, что ему «повезёт». Судя по его прошлым подвигам, государство может назначить его, в лучшем случае, пономарём (custos) «Святого» в каком-нибудь захолустном померанском государственном имении.
Для развлечения мы можем «эпизодически вставить» здесь великое открытие Санчо, что между «бедными» и «богатыми» «такое же различие» «как между состоятельными и несостоятельными» (стр. 354).
Пустимся теперь снова в «пустынное море» штирнеровских «определений» конкуренции:
«С конкуренцией связано не столько» (о, «Не Столько»!) «намерение сделать дело по возможности лучше, сколько намерение сделать его по возможности доходным, выгодным. Поэтому люди изучают какую-нибудь науку ради будущей должности (изучение ради куска хлеба), овладевают искусством низкопоклонства и лести, рутиной и деловыми навыками, работают для виду. Поэтому люди, если по видимости и заботятся как будто о добрых деяниях, то в действительности имеют в виду лишь выгодные махинации и наживу. Конечно, никто не хочет быть цензором, но зато всякий хочет получить повышение… всякий боится перемещения, а тем более отставки» (стр. 354, 355).
Пусть наш простак отыщет учебник политической экономии, в котором хотя бы какой-либо теоретик утверждал, что при конкуренции вся суть в «добрых деяниях» или же в том, чтобы «сделать дело по возможности лучше», а не в том, чтобы «сделать его по возможности доходным». Впрочем, в любой книге этого рода он может найти, что при строе частной собственности, разумеется, «лучше всего» «обделывает дело» наиболее развитая конкуренция, — как например в Англии. Мелкое торговое и промышленное мошенничество процветает лишь в условиях ограниченной конкуренции, среди китайцев, немцев и евреев, вообще среди разносчиков и мелких лавочников. Но наш святой даже не упоминает о торговле в разнос; он знает только конкуренцию сверхштатных чиновников и референдариев, обнаруживая все черты образцового королев-ско-прусского мелкого чиновника. С таким же успехом он мог бы привести в качестве примера конкуренции соревнование между придворными всех времён из-за милости государя, но это лежит слишком уж далеко за пределами его мелкобуржуазного кругозора.
После этих поразительных приключений со сверхштатными чиновниками, казначеями и регистраторами происходит великое приключение святого Санчо с знаменитым конём Кла-виленьо, предсказанное пророком Сервантесом в Новом завете, в XLI главе. Санчо садится на волшебного коня политической экономии и определяет минимум заработной платы при помощи «Святого». Правда, и здесь он обнаруживает свою прирождённую робость и сначала отказывается сесть на летающего коня, уносящего его далеко выше туч, в область, «где рождаются град, снег, гром и молния». Но «герцог», т. е. «государство», ободряет его, и вслед за тем как уселся в седло более смелый и опытный Дон Кихот-Шелига, наш храбрый Санчо также взбирается на лошадиный круп. И как только рука Шелиги повернула винт на голове коня, конь тотчас же взвился высоко в воздух, и все дамы — в особенности Мариторнес — закричали им вслед: «Пусть согласный с собой эгоизм сопровождает Тебя, мужественный рыцарь, и Тебя, ещё более мужественный оруженосец, и да удастся вам освободить нас от призрака Маламбруно, от «Святого». Но только сохраняй равновесие, мужественный Санчо, чтобы не упасть и чтобы с Тобой не произошло того, что приключилось с Фаэтоном, когда он захотел управлять колесницей солнца!»
«Если мы допустим» (он колеблется уже гипотетически), «что подобно тому как порядок относится к сущности, государства, так и подчинение обосновано в его природе» (приятное модулирование между «сущностью» и «природой» — теми «козами», которых наблюдает Санчо во время своего полёта), «то мы заметим, что подчинённые» (следовало, разумеется, сказать: подчиняющие) «или привилегированные непомерно обдирают и обсчитывают нижестоящих») (стр. 357).
«Если мы допустим… то заметим». Следовало сказать: то допустим. Допустив, что в государстве существуют «подчиняющие» и «подчинённые», мы тем самым «допустили», что первые имеют «привилегии» по сравнению с последними. Но стилистическую красоту этой фразы, равно как и