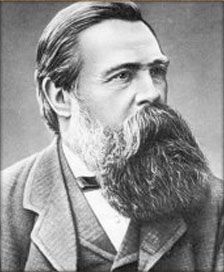хотя в этом произведении изображены «в высшей степени жалкие отношения» (стр. 107). «Истинный социализм» гораздо более вездесущ, чем наш господь Иисус. Там, где двое или трое собрались вместе — и вовсе не требуется, чтобы это происходило ради него, — он уже среди них и твердит о наличии «социального материала». Он, равно как и его последователь г-н Грюн, вообще имеет поразительное сходство с «тем плоским, самодовольным пронырливым существом, которое во все вмешивается, но ни в чем но в состоянии разобраться» (стр. 47).
Паши читатели, быть может, помнят одно из писем Вильгельма Мейстера своему зятю — «Годы учения», последний том, — где он после нескольких довольно плоских замечаний о том, что расти в достатке — это преимущество, признает превосходство дворянства над мещанами и санкционирует, как не подлежащее в ближайшее время изменению, неполноправное положение мещан, так же как и всех прочих недворянских классов. Только отдельным личностям при известных обстоятельствах должна быть предоставлена возможность подняться до уровня дворянства. Г-н Грюн делает по этому поводу следующее замечание:
«То, что Гёте говорит о превосходстве высших классов общества, безусловно верно, если отождествить высший класс с образованным классом, а именно так и делает Гёте» (стр. 264).
На этом остается только поставить точку.
Обратимся к основному, вызвавшему столько толков вопросу: к вопросу об отношении Гёте к политике и к французской революции. Тут книга г-на Грюна может нам показать, что значит не останавливаться ни перед чем; тут-то и обнаруживается вся преданность г-на Грюна.
Чтобы отношение Гёте к революции получило свое оправдание, Гёте, разумеется, должен быть выше революции, должен преодолеть ее еще до того, как она началась. Поэтому уже на стр. XXI мы узнаем, что «Гёте настолько опередил практическое развитие своей эпохи, что мог относиться к нему, как он сам считал, лишь отрицательно, мог лишь отвергать его». На стр. 84, говоря о «Вертере», который, как мы видели, уже заключал в себе in nuce{79} всю революцию, автор пишет: «История стоит на уровне 1789, а Гёте — 1889 года». Точно так же на стр. 28 и 29 Грюн заставляет Гёте «в немногих словах основательно разделаться со всяким криком о свободе» на том основании, что уже в 70-х годах Гёте напечатал в «Frankfurter Gelehrte Anzeigen»[106] статью, в которой отнюдь не говорится о свободе, требуемой «крикунами», а высказываются лишь некоторые общие и довольно банальные рассуждения о свободе как таковой, о самом понятии свободы. Далее: поскольку Гёте в своей докторской диссертации выдвигал тезис об обязанности каждого законодателя вводить какой-либо определенный культ, — тезис, который сам Гёте трактует лишь как забавный парадокс, вызванный провинциальной перебранкой франкфуртских попов (и это цитирует сам г-н Грюн), — объявляется, что «студент Гёте выбросил как изношенные подметки весь дуализм революции и современного французского государства» (стр. 26, 27), Повидимому, г-ну Грюну достались в наследство «изношенные подметки студента Гёте» и он приделал их к семимильным сапогам своего «социального движения».
Теперь, конечно, высказывания Гёте, относящиеся к революции, предстают перед нами в совершенно новом свете. Теперь нам ясно, что он, который столь возвышался над революцией, который за пятнадцать лет до нее «разделался» с ней, «выбросил как изношенные подметки», опередил ее на целое столетие, — что он не мог отнестись к ней с сочувствием, не мог заинтересоваться народом «крикунов о свободе», с которым он свел свои счеты уже в 1773 году. Теперь для г-на Грюна нет никаких трудностей. Пусть Гёте сколько угодно облекает в изящные двустишия банальную традиционную мудрость, пусть он делает ее предметом филистерски ограниченных рассуждений, пусть он испытывает мещанский трепет перед великим ледоходом, угрожающим его мирному поэтическому уединению, пусть он проявляет мелочность, трусость, лакейство, — ничто не может вывести из себя его терпеливого комментатора. Г-н Грюн поднимает его на свои неутомимые плечи и несет через грязь; мало того, он всю грязь принимает на счет «истинного социализма», лишь бы не запачкались башмаки Гёте. Начиная с «Кампании во Франции» и кончая «Побочной дочерью» — все, все без исключения принимает на себя г-н Грюн (стр. 133–170), обнаруживая преданность, которая могла бы растрогать до слез человека, подобного Бюше. Но когда все бесполезно, когда грязь уж очень глубока, тогда выдвигается высшее социальное толкование, и г-н Грюн парафразирует следующее место:
О печальной судьбе твоей, Франция, пусть подумают крупные люди.
Но поистине — тот, кто помельче, задуматься должен вдвойне!
Гибель крупных ждала. Но кто был защитником массы
От массы? Масса — вот кто для массы тиран[107].
«Кто будет защитником?» — кричит г-н Грюн изо всей мочи, прибегая к разрядке, к вопросительным знакам, ко всем «носителям трагедии радикального чувственного пантеизма». «А именно, кто будет защитником неимущей массы, так называемой черни, от имущей массы, от законодательствующей черни!» (стр. 137). «А именно, кто будет защитником» Гёте от г-на Грюна?
Таким же способом объясняет г-н Грюн одно за другим все высокомудрые бюргерские наставления из «Венецианских эпиграмм», которые ему «представляются пощечинами, раздаваемыми рукой Геркулеса, и звук которых лишь теперь нам кажется таким приятным» (после того как для мещанина опасность миновала), «так как мы имеем великий и горький опыт» (безусловно, весьма горький для мещанина) «за плечами» (стр. 136).
Из «Осады Майнца» г-н Грюн
«ни в коем случае не хотел бы оставить без внимания следующего места: «Во вторник… я поспешил… засвидетельствовать свое почтение… моему государю и при этом имел счастье услужить принцу… моему неизменно милостивому зосподину»» и т. д.
То место, где Гёте повергает свою верноподданническую преданность к стопам г-на Рица, лейб-камердинера, лейб-рогоносца и лейб-сводника прусского короля{80}, г-н Грюн не считает удобным цитировать.
По поводу «Гражданина-генерала» и «Эмигрантов» мы узнаем:
«Вся антипатия Гёте к революции, так часто облекавшаяся в поэтическую форму, была связана с этими вечными излияниями горя, с тем, что он видел людей, изгоняемых из честно заработанных и честно нажитых владений, на которые притязали интриганы, завистники» и пр., «с этой самой несправедливостью грабежа… Его домовитая, мирная натура возмущалась нарушением права владения, совершаемым по произволу и обрекавшим целые массы людей на бегство и нищету» (стр. 151).
Отнесем это место без всяких рассуждений на счет «человека», «мирная и домовитая натура» которого чувствует себя так уютно среди «честно заработанных и честно нажитых», проще говоря, благоприобретенных «владений», что он объявляет революционные бури, сметающие sans facon{81} эти владения, «произволом», делом рук «интриганов, завистников» и пр.
После всего сказанного нас не удивляет, что бюргерская идиллия «Германа и Доротеи» с ее трусливыми и премудрыми провинциалами, с ее причитающими крестьянами, в суеверном страхе удирающими от армии санкюлотов и от ужасов войны, вызывает у г-на Грюна «самое чистое наслаждение» (стр. 165). Г-н Грюн
«спокойно довольствуется даже ограниченной миссией, которая в конце концов… отводится немецкому народу;
Нет, не германцу пристало ужасное это движенье
Продолжать и не ведать — сюда ли, туда ли податься»[108].
Г-н Грюн поступает правильно, проливая слезы соболезнования о жертвах тяжелой эпохи и в патриотическом отчаянии обращая по поводу таких ударов судьбы свои взоры к небу. Ведь и без того не мало есть испорченных людей и выродков, в груди которых не бьется «человеческое» сердце, которые предпочитают подпевать в республиканском лагере «Марсельезу» и даже в покинутой каморке Доротеи позволяют себе скабрезные шутки. Г-н Грюн — добродетельный муж, возмущающийся бесчувственностью, с которой, например, какой-нибудь Гегель смотрит на «мирные цветочки», растоптанные в бурном ходе истории, и насмехается над «скучными жалобами на тему о личных добродетелях скромности, смирения, человеколюбия и сострадательности», раздающимися «против всемирно-исторических деяний и совершающих их лиц»[109]. Г-н Грюн прав в этом. На небе он получит заслуженную награду.
Мы закончим «человеческие» комментарии к революции следующим высказыванием: «Подлинный комик мог бы позволить себе признать самый Конвент бесконечно смешным»; а пока не нашлось такого «подлинного комика», г-н Грюн дает нам тем временем необходимые для этого наставления (стр. 151 и 152).
Об отношении Гёте к политике после революции г-н Грюн опять-таки дает нам ошеломляющие разъяснения. Приведем лишь один пример. Мы уже знаем, какая глубокая злоба против либералов таится в груди «человека». «Поэт человеческого» не может, конечно, сойти в могилу, без того чтобы специально не отмежеваться от них и не оставить определенного назидания гг. Велькеру, Ицштейну и К°. Такое назидание наше «самодовольное пронырливое существо» находит (см. стр. 319) в следующем месте из цикла «Кроткие ксении»:
Да это ж все тот же старый помет!
Другим бы давно надоело
Не двигаться с места.
Идите ж вперед!
Высказанный Гёте взгляд: «Ничто не внушает большего отвращения, чем большинство, так как оно состоит из немногих сильных вожаков, из плутов, которые приспосабливаются, из слабых, которые ассимилируются, и из массы, которая семенит за ними, не зная и в отдаленной степени, чего она хочет»[110], — это поистине филистерское мнение, отличающееся тем невежеством и близорукостью, которые были возможны только на ограниченной территории немецкого карликового государства, представляется г-ну Грюну как «критика позднейшего» (т. е. современного) «правового государства». Насколько она веска, можно убедиться, «например, в любой палате представителей» (стр. 268). Таким образом, «чрево» французской палаты[111] только по невежеству так превосходно печется о себе и себе подобных. Несколькими страницами дальше (стр. 271) «июльская революция» оказывается для г-на Грюна «фатальной», а уже на стр. 34 высказывается суровое осуждение Таможенному союзу, так как он «делает для нагого, зябнущего еще более дорогими лохмотья, прикрывающие его обнаженное тело, ради того, чтобы хоть немного упрочить устои трона (!!) свободомыслящих денежных тузов» (которые, как известно, во всех государствах Таможенного союза находятся в оппозиции к «трону»). «Нагих» и «зябнущих», как известно, мещанин в Германии всегда выставляет на передний план, когда дело идет о противодействии покровительственным пошлинам или какой-нибудь другой прогрессивной буржуазной мере, и