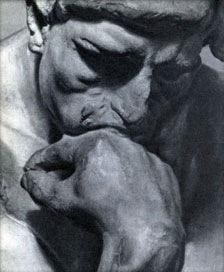как опорная
база для наступательных действий» (Геродот. История, I, 90).
И снова Фемистоклу пришлось проявлять дипломатические таланты. Он отправился в Спарту
тянуть время, а афиняне принялись спешно возводить стены: «Постройку стен он предложил
производить всем поголовно жителям государства — самим, и женам, и детям, не жалея ни
частного, ни общественного здания, раз из него можно было бы воспользоваться чем-нибудь
для работы, но ломать все» (Геродот. История, I, 90). Ломать приходилось действительно все;
по свидетельству Геродота, в стене можно было обнаружить что угодно: «В самой постройке
еще и теперь видны признаки того, что она производилась поспешно. Именно в нижних
частях сложены камни различного характера, кое-где даже не прилаженные один к другому,
но сложены так, как их сюда приносили отдельные люди. В стену вложено много плит с
надгробных памятников и много камней, обработанных для других целей» (История, I, 93).
Фукидид справедливо, как нам кажется, видит в этой истории со строительством стен начало
той строительной лихорадки, которая заставила афинян соорудить затем стены вокруг Пирея,
начать огромное по тем временам строительство общественных сооружений, в том числе и
таких, как перестроенный по плану Перикла ансамбль Акрополя. Не всем это нра-нилось.
Платон, например, упрекал Фемистокла, Ки-мона и Перикла за то, что они наполнили город
«портиками, деньгами и всевозможными пустяками» (Гор-гий, 526 В), да и в Народном
собрании, когда союзная казна была перенесена с Делоса в Афины, многие, по
206
М.К.Петров
Плутарху, чернили Перикла: «Эллины понимают, что они терпят страшное насилие и
подвергаются открытой тирании, видя, что на вносимые ими по принуждению деньги,
предназначенные для войны, мы золотим и наряжаем город, точно женщину-щеголиху, обвешивая его дорогим мрамором, статуями богов и храмами, стоящими тысячи талантов»
(Перикл, XII).
Перикл отвечал на эти обвинения: «Афиняне не обязаны отдавать союзникам отчет в деньгах,
потому что они ведут войну в защиту их и сдерживают варваров, тогда как союзники не
поставляют ничего — ни коня, ни корабля, ни гоплита, а только платят деньги; а деньги
принадлежат не тому, кто их дает, а тому, кто получает, если он доставляет то, за что
.получает. Но если государство снабжено в достаточной мере предметами, нужными длявойны, необходимо тратить его богатство на такие работы, которые после окончания их
доставят государству вечную славу, а во время исполнения будут служить тотчас же
источником благосостояния, благодаря тому что явится всевозможная работа и разные
потребности, которые пробуждают всякие ремесла, дают занятие всем рукам, составляют
заработок чуть ли не всему государству, так что оно за свой счет себя и украшает и кормит»
(Плутарх. Перикл, XII).
И действительно, жизнь в Афинах кипела: «Там, где были материалы: камень, медь, слоновая
кость, черное дерево, кипарис; где были ремесленники, обрабатывающие эти материалы:
плотники, мастера глиняных изделий, медники, каменотесы, красильщики золота,
размягчители слоновой кости, живописцы, эмалировщики, граверы; люди, причастные к
перевозке и доставке этих материалов: по морю — крупные торговцы, матросы, кормчие, а по
земле — тележные мастера, содержатели лошадей, кучера, крутильщики канатов,
веревочники, шорники, строители дорог, рудокопы; где, словно у полководца, имеющего
собственную армию, у каждого ремесла была организованная масса низших рабочих, не
знавших никакого мастерства, имевшая значение простого орудия, «тела», при произАнтичная культура
207
водстве работ, — там эти работы распределяли, сеяли благосостояние во всяких, можно
сказать, возрастах и способностях» (Плутарх. Перикл, XII).
Возникает, таким образом, какой-то общий сдвиг деятельности к строительству или, вернее,
распад деятельности полиса на две составляющие. Одну из них можно считать традиционной:
она воспроизводит ритуал, наличные социальные отношения. Но вот вторую составляющую,
эту строительную лихорадку, начало которой нетрудно объяснить восстановлением после
нашествия и кознями лакедемонян, оказывается все же трудно понять в рамках ритуальной
необходимости. В самом деле, почему именно Парфенон? Или почему портики?
Экономическая сторона дела выглядит довольно прозрачно: перед нами, видимо, явление того
же порядка, что и те, которые вызывают к жизни вещи загадочные и величественные, такие,
как Куско, Запретный город в Пекине, Чичен-Итца, Фатехпур-сикри и т.п., т.е. перед нами
прямое или косвенное омертвление капитала в общественные сокровища. Плутарх так,
собственно, и рассматривает все это строительство, когда он бесхитростно говорит о его
мотивах: «Перикл хотел, чтобы рабочая масса, не несущая военной службы, не была
обездолена, но вместе с тем чтобы она не получала денег в бездействии и праздности»
(Перикл, XII).
Такое экономическое понимание объясняет многие частные детали, и прежде всего
технологическую «всеядность» грека классического периода: его интерес к «полезному
занятию вообще» и безразличие к конкретной форме этого занятия, что мы уже видели в
свидетельствах Ксенофонта и Эсхина. В самом деле, если речь идет только о том, чтобы
«занять» рабочую массу, то, собственно, безразлично, каким способом она занята: пилит ли
камни для постройки Эрехтейона, получая за это драхму в день, либо же распиливает этот
Эрехтейон на кубики-сувениры, получая все ту же драхму в день. В деятельности полиса
появляется элемент бессмыслицы, «чудесного», выброшенного за ритуал, того, что Перикл
называет «вечной славой», а
208
М. К. Петров
Плутарх воспринимает именно как спор со временем: «Но что доставило жителям больше
всего удовольствия и послужило городу украшением, что приводило весь свет в изумление,
что, наконец, является единственным доказательством того, что прославленное могущество
Эллады и ее прежнее богатство не ложный слух, — это постройка величественных зданий»
(Перикл, XII).
Пират-законодатель предстает в новом амплуа: предстает как творец величественной
бессмыслицы, которая способна «приводить в изумление» весь свет и вызывать у людей то,
что новое время назовет чувством «естественного благочестия», описание которого можно
встретить и у Гоббса, и у Канта, да и у всех вообще философов, в том числе и античных. Уже
древние понимали, что истолковать этот тип действий рационально, свести его к ритуалу, к
«природе», нет никакой возможности. Понимали, что здесь возникает какой-то алогизм,нарушение установившихся норм жизни. Антифонт, например, четко выразил эту антиномию
деятельности, заметив, что искусство — выдумка законодателей и существует оно по закону
(УОЦШ), а отнюдь не по природе (