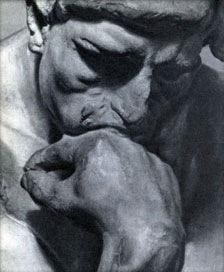Климент называет его
«перипатетиком» (Strom. 171,4). Известно, что родился он в Панее,
жил и работал в Александрии во времена Птолемея VII Фи-
лометора (ок. 175 до н. э.). Во 2-й книге Маккавеев (2 Макк.
1:10) говорится, что он был учителем Птолемея XI. В духе
аллегорического истолкования иудейского Писания,
достигшего впоследствии полного развития у Филона
Александрийского, Аристобул рассматривает Тору как совершенный
и неисчерпаемый источник знания, истинный смысл
которого раскрывается в аллегориях (ср., напр., аллегорическое
толкование Аристобулом света на Синае — Clem, Strom. VI
32, 5; Eusebius. Praep. Eu. VIII 10, 12—17). Вероятно, именно
ему принадлежит первое развитие представления о том, что
греческая философия восходит своими корнями к Закону
Моисея и поэтому является только несовершенным
подражанием совершенной мудрости, открытой Богом Моисею
(Clem., Strom. V 97, 7; 99,3; ср. 107, 1—4, однако цитаты из
Лина, Орфея, Гомера и Гесиода, которые приводит Климент
Александрийский в доказательство «греческих
заимствований», взяты скорее всего из некоего позднейшего
произведения, которое только приписывалось Аристобулу). Эта
идея греческого «плагиата» имела долгую историю: она была
принята Филоном и затем подробно разработана в «Строма-
тах» Климента Александрийского (особенно Strom. V 14).
Фрагм.: Walter N. Der Thoraausleger Aristobulos, Untersuchungen zu
seinen Fragmenten und zu pseudepigraphischen Resten der
judischhellenistischen literatur. В., 1964.
E. В. Афонасин
АРИСТОКЛ(‘ApioroK>jjc) из Мессены (2 в.) — греческий
философ, представитель Перипатетической школы, с
характерным для поздних перипатетиков интересом к
Платону и скептикам (ср. Александр из Дамаска), а также синтезом
риторики и философии в духе «второй софистики». Автор
сочинений «О философии» (не менее 8 кн.), «Риторическое
искусство», «Кто выше — Гомер или Платон?». Обширные
выдержки из сочинения Аристокла «О философии»
приводит Евсевий в «Приготовлении к Евангелию»: о философии
Платона, Ксенофана и Парменида и особенно ценные об
учении Пиррона (см. Рг. Eu. XIV, 18, 1—4=test. 53 Decleva
Caizzi). Аристокл традиционно считался одним из учителей
Александра Афродисийского, но сейчас это мнение
оставлено (см. Аристотель из Митилены).
Лит.: Aristoclis Messenii Reliquiae, ed. H. Heiland, Diss. Giessen,
1925; Trabucco F. II problema di «de philosophia» di Aristocle et la sua
dottrina, «Acme» II, 1958, p. 97—150; Moraux P. Der Aristotelismus
bei den Griechen, Bd. 2. В., 1984, S. 83-207.
M. A. Солопова
АРИСТОКРАТИЗМ(от греч. арютокрапа, букв, власть
лучших, знатнейших) — идеал, в основе которого изначальная
и объективная предзаданность личного достоинства и
социальной значимости человека. Содержание аристократизма
включает ценностный опыт древних обществ: эвпатридов в
Афинах, патрициев Рима. Первые примеры аристократизма
представлены в сочинениях Конфуция, Пиндара, Платона
и Аристотеля (образ того, «кто считает себя достойным ве-
169
АРИСТОКСЕН
ликого, будучи этого достойным»). В эпоху средневековья
аристократизм занимает одно из центральных мест в
системе ценностей наряду с рыцарством, монашеством и др.
Феодальная аристократия, как и рыцарство, возникла из
войны и для войны, что определило возвышение ценности
личной храбрости и личной чести, но в отличие от
рыцарства, воплощавшего динамику средневекового мира, идею
пути, аристократизм олицетворял статичность,
защищенность и гарантированность установленного Богом
порядка. Незначительная социальная динамика средневековья,
жесткая иерархизированность общества и предзаданность
связей и отношений давали чувство самодостаточности и
достоинства, исключали стремление занять место другого
как возможность возвышения, формировали ценность
сословной чести и верности, а также патриархальной
ответственности за вассалитет.
Обостренное чувство чести сочеталось с довольно
свободным отношением к собственному поведению, ибо не
жизненные успехи определяют человека, а он их. Богатство
не является ценностью вне возможности его личного,
неэкономического потребления: оно результат не повседневного
труда (это участь и призвание смерда), а места в социальной
иерархии и в семье, нечто данное свыше, а потому и более
ценное, чем заработанное. Ценность богатства
заключается в том, что оно позволяет реализовывать свой долг,
осуществлять дарение и поддерживать соответствующий образ
жизни, т.е. определяется социальным обликом владельца.
Аристократический образ жизни был связан с
непроизводительной деятельностью, в т. ч. образовательной, цель
которой не профессионализм, а личное совершенствование.
Турнир и охота были сферами демонстрации личного
достоинства и самореализации. Средневековая жизнь с ее
обилием праздников и лишенным напряжения ритмом жизни
естественным образом включала в себя праздность, которая
в среде высших классов становилась нормативным
жизненным идеалом и приобретала демонстративный характер
(что отличало их ценностный мир от устремлений рыцаря и
монаха, осуществлявших идею служения в бедности и
усилиях).
В качестве общечеловеческого идеала, в отличие от
ценностно-нормативного образа в рамках аристократического
сознания, аристократизм стал осознаваться уже в период
падения аристократии и бурного возвышения буржуазии,
«мещан во дворянстве». В глазах буржуазии аристократизм
стал образом укорененности в истории и стабильности,
утрачиваемой в новом обществе. Недостижимость, невос-
питуемость и закрытость аристократизма определили то,
что это понятие развивалось не столько как нормативное,
сколько как оценочное и содержательно неопределенное.
В идеале аристократизма, утратившего свою социальную
основу, сохранилась ценность стремления к красоте, к
славе, к свободной игре (а не к пользе, безопасности,
повседневному труду). Ценности аристократизма оказались
противопоставленными ценностям мещанства.
Аристократизм подвергался критике со стороны Б. Мандевиля
(«Басня опчелах»), Ш. Моюпескьё(«0 духе законов»).
Социально-философская идеализация аристократизма наиболее ярко
сюуществленаФ.Нищце,ксФОрьшотмечал,чтобезпафосасословной
дистанции не мог бы существовать более таинственный
пафос — достижения все более возвышенных состояний и
увеличения дистанции в душе, возвышения самого типа
«человек». Подлинная аристократия чувствует себя не
функцией, а смыслом и высшим оправданием существующего
мира, мерилом ценностей. Для Ницше аристократизм есть
воплощение морали господ, противостоящей морали
рабов.
Лит.: Аристотель. Никомахова этика, IV. — Соч. в 4 т., т. 4. М.,
1984; Ницше Ф. По ту сторону добра и зла, 9. — Он же. Соч.
в 2 т., т. 2. М, 1990, с. 379-404; Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М.,
1987; Хейзинга И. Осень средневековья. М, 1988.
О. П. Зубец
АРИСТОКСЕНCApioroCevoc) из Тарента (ок. 370-300) —
греческий философ, ученик Аристотеля, представитель
Перипатетической школы. Из многочисленных сочинений,
главным образом музыковедческого, педагогического и ис-
торико-биографического характера (453 книги, согласно
«Суде»), сохранились только (в сокращенном виде)
«Элементы гармоники» в 3 книгах и часть 2-й книги «Элементов
ритмики» (курсы лекций по теории музыки, читавшиеся
Аристоксеном в Ликее). Применяя перипатетический
метод (сочетание систематизации со скрупулезностью
эмпирического описания), Аристоксен дал музыковедческий
синтез, оказавший многовековое влияние (сопоставим по
значению с зоологическими трудами Аристотеля или
ботаническими Теофраста). Зачинатель жанра биографий
философов; серия монографий о пифагорейцах: «О Пифагоре и
его учениках», «О пифагорейском образе жизни» и
«Пифагорейские изречения» (фр. 11—41 Wehrli), биография Архита
Тарентского (фр. 47—50). Культ Архита и стремление
изобразить Пифагора в духе просвещенного пифагорейства
последнего поколения пифагорейской школы (напр., избавив
его от архаического религиозного табу на бобы) разительно
контрастируют со скандально-анекдотической и очерни-
тельной тенденцией биографий Сократа и Платона (фр. 51 —
68). Засвидетельствованное для Аристоксена сравнение
отношения между душой и телом с отношением между
музыкальной гармонией и лирой (фр. 118—121) уже в «Федоне»
Платона вкладывается в уста пифагорейцу Симмию в
качестве аргумента против субстанциальности и, следовательно,
бессмертия души и, вероятно, также отражает точку зрения
«последних» пифагорейцев — учителей Аристоксена (ср.
Diog. L. VIII46), не веривших больше в метемпсихоз.
Фрагм.: Aristoxeni Elementa harmonica, гее. R. da Rios. Romae,
1954; Aristoxeni Elementa rhythmica, ed. G. B. Pighi. Bologna, 1959;
Elementa rhythmica: the fragment of book II and the additional evidence
for Aristoxenean rhythmic theory, texts edited with introd., transi, and
comm. by L. Pearson. Oxf., 1990; Wehrli F. von (hrsg.). Die Schule des
Aristoteles. Texte und Kommentar, Heft. 2. Basel — Stuttg., 1967.
Лит.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и
поздняя классика. М, 1975, с. 664—670; Wehrli F. von. Aristoxenos,
RE, Suppl. XI, 1968, col. 336—343; BelisA. Aristoxene de Tarente et
Aristote: le Traite d’harmonique. P., 1986.
A. A Лебедев
АРИСТОН(‘ApioTCov) из Александрии (1 в. до н. э.) —
греческий философ-перипатетик, автор комментария на
«Категории» Аристотеля, ссылки на который имеются в
комментарии Симпликия. См. Перипатетическая школа и
Аристотеля комментаторы.
М. А. Солопова
АРИСТОН(‘Apior?v) с Кеоса (кон. 3 в. до н. э.) — греческий
философ, преемник Ликона на посту главы Перипатетичес-
170
АРИСТОТЕЛИЗМ
кой школы. Автор биографий философов Гераклита,
Сократа, Эпикура и, вероятно, схолархов Ликея; также автор
работ по этике, вт. ч. «Записок о тщеславии», написанных в
русле традиции «Характеров» Теофраста.
фрагм.: Wehrli F. (ed.). Die Schule des Aristoteles. Texte und
Kommentar. Basel, 1969, Heft VI, S. 27-44.
Лит.: Knogel W. Der Peripatetiker Ariston von Keos bei Philodem.
Lpz., 1933.
M. А. Солопова
АРИСТОН(‘ApiGTCov) Хиосский (1-я пол. 3 в. до н. э.) —
греческий философ-стоик, ученик Зенона из Китая, один из
самых оригинальных представителей первой генерации
стоической школы; от 16 известных сочинений Аристона
сохранились незначительные фрагменты. Занимался
исключительно этикой, считая (в духе Сократа—Xen. Mem. IV 7,1
sq.), что прочие дисциплины излишни, т. к. не способствуют
исправлению жизни (SVFI351 ел.); позиция Аристона была
первым доктринальным выражением обшей эволюции
стоического учения в сторону гипертрофирования этической
части. В этике Аристон придерживался последовательного
формализма, отвергая внутреннее деление «безразличного»
(см. Адиафора); абсолютно безразличное отношение к
последнему объявил конечной целью и обозначал
оригинальным термином aouxcpopia (360). Практическую этику (паре-
нетику) считал бесполезной (357 ел.).
Фрагм.: S VF I 333—403; рус. пер.: Столяров. Фрагменты, т. 1,
с.116-139.
Лит.: loppolo A. M. Aristone de Chio е le stoicismo antico. Napoli,
1980.
А. А. Столяров
АРИСТОТЕЛИЗМ— 1) в узком смысле — учение
последователей Аристотеля (не совпадает с понятием
Перипатетической школы, т. к. древние перипатетики после Теофраста
до 1 в. до н. э. по существу никак не связаны с аристотелиз-
мом); 2) в более широком смысле об аристогелизме говорят
применительно к истории истолкования, распространения,
переводов и влияния сочинений Аристотеля, а также в связи
с усвоением учения Аристотеля в различных средневековых
теологических традициях. Сам термин
новоевропейского происхождения, однако греческий глагол apiaxoie^lCeiv
(«аристотелизировать») впервые встречается у Страбона
(XIII, 1, 54) применительно к возрождению аристотелизма
в 1 в. до н. э.
Об истории античного греческого аристотелизма см.
Ранняя восточная патристика отталкивается от
неоплатонизма и свободна от влияния Аристотеля, за исключением
Немесия Эмесского и Иоанна Филопона. Осуждая ересь Ев-
номия, Василий Великий, Григорий Нисский и Феодорит
усматривают ее корни в аристотелевской силлогистике.
Проникновение понятийного аппарата и терминологии
Аристотеля в христианскую теологию происходит в
сочинениях Леонтия Византийского, от которого в этом
отношении зависит Максим Исповедник. Сочинения о животных
используются в традиции «Шестодневов» (начиная с «Шес-
тоднева» Василия Великого). Официальное признание (в
качестве «служанки теологии») логика Аристотеля получает
в «Диалектике» Иоанна Дамаскина. Оживление
комментаторской традиции в 11 в. связано с деятельностью
платоника Михаила Пселла и его учеников Михаила Эфесского
и Иоанна Итала. Дальнейшая традиция комментирования
представлена Феодором Продромом и Иоанном Цецисом
(12 в.), Никифором Влеммидом (13 в., его аристотелевские
учебники логики и физики получили в Византии широкое
распространение), Георгием Пахимером («Сокращенный
очерк аристотелевской философии»), Мануилом Холобо-
лом (преподавал в Константинопольской школе с 1267),
Феодором Метохитом (ум. 1332) и др. Полемика между
Шифоном («О различиях платоновской и аристотелевской
философии», ок. 1439), отвергавшим не только аввероис-
тский и томистский аристотелизм, но и аристотелизм как
таковой, и Георгием Схоларием (Геннадием, «Против пли-
фоновых апорий, касающихся Аристотеля»), защитником
томистского аристотелизма, предвосхищает борьбу
«платоников и аристотеликов» в Италии в 15 в. Самый
значительный памятник византийского аристотелизма — сотни
рукописей сочинений Аристотеля (древнейшие — 9—10 вв.),
сохранившие для нас Corpus Aristotelicum.
Сирийский аристотелизм послужил связующим звеном
между греческим и арабским аристотелизмом. Логические
сочинения Аристотеля (гл. о. «Категории», «Герменевтика»
и «Первая аналитика») и «Введение» Порфирия были
усвоены сирийскими несторианами для целей теологии,
гомилетики и апологетики. Традицию открывает Ива, епископ
Эдесский с 435, его современники Куми и Проб,
преподаватели Эдесской теологической школы, впервые перевели на
сирийский язык части «Органона» и «Исагога» Порфирия.
После закрытия Эдесской школы императором Зеноном
(489) несториане переселились в Персию, логические
сочинения Аристотеля продолжали изучаться в теологической
школе в Нисибине. Сиромонофизитская традиция перевода
и комментирования Аристотеля на сирийский язык связана
с именами Иоанна бар Афтонии (ум. 558), Севера Себохта
(ум. 667), Иакова Эдесского (ок. 633—708), епископа
Георгия (ум. 724) и католикоса Хейнан-ишо I. Крупнейший
представитель сирийской учености того времени —