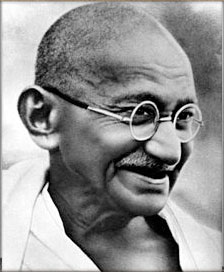лихорадочным усилиям превратить ее в образованную женщину, умеющую хотя бы читать и писать. Позднее она станет всеми обожаемой «матерью», спутницей Махатмы, но так и останется неграмотной. Как сказал Пьярелал (биограф и секретарь Ганди на протяжении почти тридцати лет) по поводу одной из их многочисленных ссор, одним-единственным замечанием, полным уничижительного здравого смысла, она доказала ему нелепость его доводов. Но понемногу, волей-неволей, она пошла вслед за своим мужем-святым (который относился к ней «жестоко любезно») и согласилась оказать ему активную поддержку в его «миссии служения». В молодости она любила украшения и красивую одежду. Когда в конце жизни ее спросили, прошла ли эта любовь, она ответила: «Самое важное в жизни — выбрать одно направление и позабыть обо всех остальных».
Итак, Мохандас воспылал страстью к своей девочке-жене, весь день, в школе и в других местах, дожидаясь момента, когда можно будет продолжить ночные утехи. «Плотское желание явилось позже, — писал он, говоря об их отношениях. — Я предлагаю задернуть здесь занавесу над моим стыдом». Очень скоро он принялся ее тиранить, мучимый ревнивыми подозрениями, которые умело разжигал один коварный друг. Он был одержимым, несправедливым, грубым: «Никогда я не забуду, никогда не прощу себе, что довел свою жену до такого отчаянного положения».
Чересчур сильная, бьющая через край, слишком рано испытанная (по вине отца) сексуальность сопровождалась чувством вины. Она выражалась в потере энергии, а также в беспорядочной трате эмоций в ущерб более возвышенной жизненной силе и более высоким обязательствам (кстати, эта идея присуща индийской традиции, где высшие умственные усилия, необходимые, например, для медитации, подкрепляются сексуальной составляющей, которая исходит на эякуляцию). В момент смерти Карамчанда это чувство усилилось вследствие драматического эпизода, который оказал самое сильное воздействие на Ганди и опять-таки был связан с его отношением к отцу.
В этот момент Мохандас столкнулся с демонами стыда, искушения, излишества и виновности. Но в другой сцене, все также с участием отца, он — победитель, хозяин положения.
Однажды он совершил кражу. Ему было 15 лет. Его брат взял денег в долг. Чтобы вернуть долг, Мохандас похитил кусочек золота с браслета, принадлежавшего брату. Эта кража камнем лежала у него на душе. Он почувствовал потребность сознаться в ней отцу. Исповедался в своем грехе в письме, которое показал ему, прося прощения. Эта сцена признания сына отцу, насыщенная высокими чувствами, изображена в Индии повсюду. На картинках или скульптурных композициях маленькие выразительные человечки; отец на смертном одре разрывает на мелкие кусочки роковое письмо, а по его щекам текут слезы; сын тоже плачет — он раскаивается.
«Он прочел все письмо до последней строчки, и слезы выступили у него на глазах, потекли по щекам, стекая на бумагу. На мгновение он закрыл глаза, чтобы подумать; потом разорвал листок. Чтобы прочесть его, он сел. Теперь он снова лег. Я тоже плакал. Я видел, что он ужасно страдает… Для меня это был живой урок ахимсы[28]. В тот миг я видел в этом лишь отеческую любовь, но сегодня я знаю, что это была ахимса во всей ее чистоте… она преображает всё, к чему прикасается. Власть ее безгранична»[29].
В тот день Мохандас соизмерил силу любви и ее способность преобразить человека. «Высшее прощение», дарованное отцом, не было ему свойственно. «Я ожидал гнева, суровых слов; думал, что он будет бить себя по лбу. А увидел его необычайно миролюбивым — я уверен, что это благодаря моему полнейшему признанию…» Своей безграничной искренностью он вызвал такое же чистосердечие.
Другое, еще более важное событие, на сей раз трагического плана, не затмило, но на какое-то время заслонило собой эту волнительную сцену (один из кульминационных моментов в отношениях между отцом и сыном), когда пятнадцатилетний сын честностью своего признания привел отца в необычное состояние духа.
Речь идет об эпизоде, в котором в очередной раз слились чувство вины и желание. О нем столько раз рассказывали, подвергая анализу, что можно передать его очень кратко. Мы видели, что сыновняя преданность была для Мохандаса одним из самых высоких идеалов. Заботы об отце наполняли его гордостью: «Каждый вечер я массировал ноги моего отца… Я выполнял эту задачу с любовью». Но пока его руки служили отцу, его мысли уносились вдаль, предвкушая грядущие наслаждения. Кастурбай была беременна, но это ничуть не умеряло его пыл.
«Настала страшная ночь», роковая ночь, когда умер отец Ганди. Торопясь к жене, Мохандас оставил присматривать за умирающим своего дядю. Однако вскоре за ним пришли. Он бросился в комнату больного и обнаружил, что отец скончался на руках у дяди, и тот, таким образом, исполнил долг, который Мохандас хотел исполнить сам: «Я понял, что если бы меня не ослепила животная страсть, я избежал бы муки оказаться вдали от отца в его последние минуты». Двойное чувство стыда — от того, что пренебрег своей самой святой обязанностью, причем чтобы утолить свои «скотские» потребности, — преследовало его всю жизнь. В довершение всего, дитя, которое носила Кастурбай, умерло вскоре после появления на свет.
Он наглядно увидел, что его преданность, которой он так гордился, имела свои границы, что он оказался не на высоте своего идеала, очерченного героем его детства, что желание греховно (о последнем он не забудет во всю свою жизнь).
Эриксон видит в этом жизненном опыте Ганди то, что он «вслед за Кьеркегором» называет «проклятием», которое отметило собой жизнь духовных новаторов, так же, как и он, «обладающих рано созревшей и неумолимой совестью», и которое происходит от эдипова комплекса. Конфликта, который юноша разрешил оригинальным образом: «В случае Ганди, “женские” услуги, оказываемые отцу, помогли мальчику подавить в себе желание заменить (стареющего) отца в обладании (молодой) матерью и его юношеское намерение устранить его как лидера в будущей жизни. Таким образом, выстроилась схема лидерства, по которой вышестоящий соперник может быть побежден только ненасильственным путем, с заявленной целью спасти его, так же, как и тех, кого он подавлял»[30]. Что касается проклятия, оно заключалось в том, что Ганди, «очень рано осознавший безграничность своих устремлений», не смог присутствовать при кончине отца и, таким образом, его высшие дарования не получили высшего освящения.
Мохандасу тогда было шестнадцать. «Мне потребовалось много времени, чтобы стряхнуть с себя цепи желания, и прежде чем победить его, мне пришлось пройти через много испытаний», — заключает он.
Разумеется, этот эпизод широко использовался некоторыми биографами, старавшимися дать психологическое объяснение обету целомудрия — брахмачарья, — который он принес уже в 1906 году.
«Святая»
Ганди был сильно привязан к своей матери Путлибай. «Его голос смягчался, когда он говорил о ней», «его глаза загорались любовью» — это наблюдение относится к 1908 году, когда Ганди было 39 лет. «Святая», — говорил он о ней.
Она была глубоко религиозна, не пропускала никаких обрядов, постилась по любому поводу («два-три поста друг за другом были для нее пустяк», — напишет человек, который превратит голодовку в грозный и действенный способ борьбы). На самом деле, ее жизнь была бесконечной цепью постов, молитв и обетов, которые интриговали ее детей. Похоже, она поднимала планку все выше: есть через раз, потом через день, и все это в течение длительного периода покаяния, потом, на протяжении такого же периода, поститься, не видя солнечного света, — вот какая мысль пришла ей в голову. Дети целыми днями смотрели на небо, подкарауливая солнце. Когда оно, наконец, показывалось, они бежали сообщить об этом матери, та устремлялась на улицу, чтобы проверить, правду ли они говорят, но к тому времени капризное светило исчезало. И Путлибай радостно продолжала поститься.
Любовь к аскетизму, епитимьи, наложенные самой на себя, железная воля — стремясь к самообладанию, Ганди перенял ее приемы. А главное, мать сформировала его идеальный образ женщины: равная мужчине, но превосходящая его своей способностью к любви и самопожертвованию, готовая пострадать за других ради общего блага, а значит, более способная к ненасилию в том смысле, в каком он его понимал.
«Женщина — олицетворение ненасилия, того ненасилия (ахимсы), которое означает безграничную любовь, то есть безграничную способность страдать. Ибо кто еще, кроме матери человеческой, может проявить столь великую силу? Она способна позабыть о муках беременности и родов, видя в них радость творения; она способна страдать каждый день, чтобы вырастить свое дитя»[31].
Закон любви и страдания, который усвоил Ганди и даже хотел внедрить в форме ненасилия в политическую жизнь и социальные институты.
Антропологи, биографы и писатели всякого рода, индийские и западные, изучали отождествление Ганди с женщиной, точнее, его особые отношения со своей матерью (он сам говорил, что был ее любимым ребенком), и вообще его отношения с женщинами. Эрик Эриксон, автор широко цитируемого исследования, задумался о том, существовал ли когда-нибудь другой политический лидер, который бы так же, как он, гордился тем, что он «наполовину мужчина, наполовину женщина», и который хотел бы быть «более материнским, чем женщины, произведенные на свет для этого». «Бапу[32], мать моя» — под таким заголовком были опубликованы мемуары, написанные Ману, юной сиротой, которую Кастурбай приняла в свою семью и о которой Ганди заботился после смерти своей супруги. Желанием Ганди было очистить человечество и сделать людей более цивилизованными, преобразить их и возвысить (в своем ненасилии он принял женскую позицию, основанную на ценностях смирения и страдания). Это желание, по Эриксону, частично проистекало из глубин его взаимоотношений с матерью, идеализации женщины, чистой от сексуальных контактов, близкой к божественному состоянию, объекта культа и поклонения — образца для мужчины. Поскольку бесконечная, безусловная материнская любовь была в его представлении высочайшей формой любви, которую он противопоставлял плотской любви, сексуальному желанию, эгоистичному и корыстному, которое он дал себе слово победить в себе еще на заре своей жизни. «И в этом тоже проявилось сочетание глубоко личной потребности и общенациональной тенденции, — добавляет Эриксон, — ибо самый глубокий, проникновенный и консолидирующий слой индийской религиозности, вероятно, заключается в примитивном культе матери»[33]. Материнская доминанта у Ганди наряду с его огромной, безграничной потребностью в том, чтобы помогать бедным и неприкасаемым, лечить и спасать их, любить их как мать, поддерживалась влиянием на него индусской религии, матери-прародительницы — «первородной силы материнского начала, символизируемой коровой, древнего элемента, которым проникнута вся индийская традиция»[34]. Связь с матерью стала основой глубочайшего «индийства» Ганди: «Сила его матери, которую он усвоил, в сочетании с общей культурой, в конечном итоге укрепила в нем собственно индийскую интуицию, но также требовательную способность симпатизировать индийским массам…»[35]
Может быть, именно благодаря своей древней принадлежности к глубинному слою индийской культуры, благодаря общности с этой основой религии Ганди обладал способностью влиться