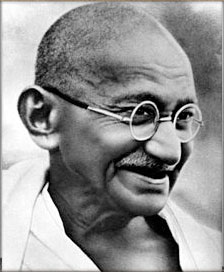за моей конторой и доносили чиновникам, где я бываю. Но чиновники
эти настолько скомпрометировали себя, что никакие агенты уже не могли им
помочь. Тем не менее, не располагай я поддержкой индийцев и китайцев, чиновники эти никогда бы не были арестованы.
Один из них скрылся. Полицейский комиссар добился приказа о его выдаче: его арестовали и доставили в Трансвааль. Обоих судили, но несмотря на
серьезные улики, а также на то, что один из них скрывался от суда, присяжные
признали их невиновными и оправдали.
Я испытывал болезненное чувство разочарования. Полицейский комиссар также
был весьма огорчен. Профессия юриста мне опостылела. Самый интеллект стал
мне противен, поскольку оказывалось возможным проституировать его для
сокрытия преступлений.
Виновность этих двух чиновников была все же столь очевидна, что, хотя они
и были оправданы судом, правительство не сочло возможным оставить их на
службе. Оба были уволены, и в Азиатском ведомстве воздух стал сравнительно
чище, а индийская община вздохнула свободнее.
Событие это подняло мой престиж, и дел у меня стало еще больше. Удалось
сберечь многие сотни фунтов стерлингов, вымогавшихся ежемесячно у членов
общины. Однако всего спасти было нельзя, потому что бесчестные люди
продолжали свое дело. Но честный человек получил теперь возможность
оставаться честным.
Должен сказать, что лично я ничего не имел против тех двух чиновников.
Зная это, они обратились ко мне, когда оказались в затруднительном
положении, и я оказал им содействие. Чиновникам представился случай получить
службу в иоганнесбургском муниципалитете при условии, если я не буду против.
Один из их друзей сообщил мне об этом, я согласился не препятствовать им, и
они устроились.
Такое поведение с моей стороны весьма ободрило чиновников, с которыми мне
приходилось сталкиваться, и, несмотря на то, что мне часто случалось воевать
с их ведомством и я прибегал к резким выражениям, они сохранили ко мне самые
дружеские чувства. Тогда я еще не вполне сознавал, что мое поведение было
свойственно моей природе. Впоследствии я понял, что это неотъемлемая часть
сатьяграхи и характерная черта ахимсы.
Человек и его поступок — вещи разные. В то время как хороший поступок
заслуживает одобрения, а дурной — осуждения, человек, независимо от того, хороший или дурной поступок он совершил, всегда достоин либо уважения, либо
сострадания, смотря по обстоятельствам. «Возненавидь грех, но не грешника» —
правило, которое редко осуществляется на деле, хотя всем понятно. Вот почему
яд ненависти растекается по всему миру.
Ахимса — основа для поисков истины. Каждый день я имею возможность
убеждаться, что поиски эти тщетны, если они не строятся на ахимсе. Вполне
допустимо осуждать систему и бороться против нее, но осуждать ее автора и
бороться против него — все равно, что осуждать себя и бороться против самого
себя. Ибо все мы из одного теста сделаны, все мы дети одного творца, и
божественные силы в нас безграничны. Третировать человеческое существо —
значит третировать эти божественные силы и тем самым причинять зло не только
этому существу, но и всему миру.
Х. СВЯТОЕ ВОСПОМИНАНИЕ И ПОКАЯНИЕ
События в моей жизни развивались таким образом, что я сталкивался с людьми
различных вероисповеданий и различного общественного положения. Я всегда
относился одинаково к своим родным и посторонним, соотечественникам и
иностранцам, белым и цветным, индусам и индийцам других религий, будь то
мусульмане, парсы, христиане или иудеи. С уверенностью могу сказать, что
сердце мое было неспособно воспринимать их по-разному. Я не могу поставить
себе это в заслугу, так как это свойственно моей природе, а не результат
какого-либо усилия с моей стороны, тогда как в отношении таких основных
добродетелей, как ахимса (ненасилие), брахмачария (целомудрие), апариграха
(нестяжательство) и другие, могу сказать, что я вполне сознательно стремился
постоянно их придерживаться.
Когда я практиковал в Дурбане, служащие моей конторы часто жили вместе со
мной. Среди них были и индусы, и христиане, или, если определять их по месту
рождения, гуджаратцы и тамилы. Не помню, чтобы я относился к ним иначе, чем
к родным и друзьям. Я обращался с ними как с членами одной семьи, и у меня
бывали неприятности с женой всякий раз, когда жена моя противилась этому.
Один из служащих был христианином и происходил из семьи панчамы.
Дом, в котором мы тогда жили, был построен по западному образцу, и в
комнатах отсутствовали стоки для нечистот. Поэтому во всех комнатах
ставились ночные горшки. Мы с женой сами выносили и мыли их, без помощи слуг
или уборщиков. Служащие, которые вполне обжились в доме, конечно, сами
выносили за собой горшки, но служащий-христианин только что приехал, и мы
считали своим долгом самим убирать его спальню. Жена могла выносить горшки
за другими квартирантами, но выносить горшок, которым пользовался человек, родившийся в семье панчамы, казалось ей невозможным. Мы поссорились. Она не
хотела допустить, чтобы этот горшок выносил я, но и сама не желала делать
это.
Мне вспоминается момент, как она, спускаясь по лестнице с горшком в руках, ругает меня, глаза ее красны от гнева, и слезы градом катятся по щекам. Но я
был жестоким мужем. Я считал себя ее наставником и из слепой любви к ней
изводил ее.
Меня не удовлетворяло, что она просто выносит горшок. Мне хотелось, чтобы
она делала это с радостью. Поэтому я сказал, возвысив голос:
— Я не потерплю такого безобразия в своем доме!
Эти слова больно ужалили ее. Она воскликнула:
— Оставайся в своем доме, а меня выпусти отсюда!
Я потерял совсем голову, и чувство сострадания покинуло меня. Схватив ее
за руку, я дотащил беспомощную женщину до ворот, которые были как раз против
лестницы, и стал отворять их, намереваясь вытолкнуть ее вон. Слезы ручьями
текли по ее щекам, она кричала:
— Как тебе не стыдно? Можно ли так забываться? Куда я пойду? У меня нет
здесь ни родных, ни близких, кто бы мог меня приютить. Думаешь, что если я
твоя жена, так обязана терпеть твои побои? Ради бога, веди себя прилично и
запри ворота. Я не хочу, чтобы видели, какие сцены ты мне устраиваешь.
Я принял вызывающую позу, но почувствовал себя пристыженным и закрыл
ворота. Как жена не могла меня покинуть, так и я не мог оставить ее. Между
нами часто случались перебранки, но они всегда заканчивались миром. Жена, с
ее ни с чем не сравнимым терпением, неизменно оказывалась победительницей.
Теперь я уже могу рассказывать об этом случае с беспристрастием, так как
он относится к периоду жизни, к счастью, давно для меня закончившемуся. Я
больше не слепец, не влюбленный до безумия муж и уже не наставник своей
жены. Кастурбай могла бы при желании быть со мной теперь столь же
нелюбезной, каким я прежде бывал с нею. Мы — испытанные друзья, и ни один из
нас не рассматривает другого как объект похоти. Во время моей болезни жена
моя была неутомимой сиделкой, неустанно ухаживавшей за мной без мысли о
награде.
Случай, о котором я рассказал, произошел в 1898 году, когда я еще не имел
никакого понятия о брахмачарии. Это были времена, когда я думал, что жена —
лишь объект похоти мужа, что она предназначена исполнять его повеления, а не
быть его помощником, товарищем и делить с ним радости и горести.
Только в 1900 году эти мои взгляды претерпели коренные изменения, а в 1906
году окончательно сформировались новые. Но об этом я буду говорить в
соответствующем месте. Пока же достаточно сказать, что с постепенным
исчезновением у меня полового влечения семейная жизнь становилась все более
мирной, приятной и счастливой.
Пусть никто не делает вывода из этого святого для меня воспоминания, что
мы идеальная супружеская чета или что наши идеалы полностью совпадают. Сама
Кастурбай, пожалуй, даже и не знает, есть ли у нее какие-либо собственные
идеалы. Даже и теперь она, по-видимому, не очень одобряет многие мои
поступки. Но мы никогда не обсуждаем их, и я не вижу в этом ничего хорошего.
Она не получила воспитания ни от своих родителей, ни от меня тогда, когда я
должен был этим заняться. Но она в значительной степени наделена качеством, которым обладает большинство жен индусов. Вот в чем оно заключается: вольно
или невольно, сознательно или бессознательно она считала себя счастливой, следуя по моим стопам, и никогда не препятствовала моему стремлению вести
воздержную жизнь. Поэтому, хотя разница в интеллекте у нас и велика, у меня
всегда было такое ощущение, что наша жизнь полна удовлетворенности, счастья.
XI. БЛИЗКОЕ ЗНАКОМСТВО С ЕВРОПЕЙЦАМИ
Дойдя до этой главы, я почувствовал необходимость рассказать читателю, как
я работаю над моей книгой.
Когда я начал писать ее, определенного плана у меня не было. У меня нет ни
дневника, ни документов, на основании которых можно было бы вести
повествование о моих опытах. Пишу я так, как меня направляет господь. Я не
могу знать точно, что бог направляет все мои сознательные мысли и действия.
Но, анализируя свои поступки, важные и незначительные, полагаю себя вправе
считать, что все они направлялись господом.
Я не видел его и не знаю. Я верю в бога, как верит весь мир, и поскольку
вера моя незыблема, считаю ее равноценной опыту. Однако определение веры как
опыта означает измену истине, и поэтому, пожалуй, правильнее сказать, что у
меня нет подходящего слова, чтобы определить свою веру в бога.
Теперь, по-видимому, несколько легче понять, почему я считаю, что пишу эту
книгу так, как внушает мне бог. Приступив к предыдущей главе, я озаглавил ее
сначала так же, как эту, но в процессе работы понял, что, прежде чем
рассказывать о своем опыте, приобретенном в результате общения с
европейцами, необходимо написать нечто вроде предисловия. И я изменил
название главы.
А теперь, начав эту главу, я столкнулся с новой проблемой. О чем следует
упомянуть и что опустить, говоря о друзьях-англичанах? Если не писать о
событиях, необходимых для рассказа, пострадает истина. А сразу решить, какие
факты необходимы для рассказа, трудно, поскольку я не уверен даже в
уместности написания этой книги.
Сейчас я более ясно сознаю, почему обычно автобиографии неравноценны
истории (когда-то давно я читал об этом). Я сознательно не рассказываю в
этой книге обо всем, что помню. Кто может сказать, о чем надо рассказать и о
чем следует умолчать в интересах истины? Какую ценность для суда представили
бы мои недостаточные, ex parte (*) показания о событиях моей жизни? Любой
дилетант, подвергший меня перекрестному допросу, вероятно, смог бы пролить
гораздо больше света на уже описанные мною события, а если бы допросом
занялся враждебный мне критик, то он мог бы даже польстить себе тем, что
выявил бы «беспочвенность многих моих притязаний».
(* Односторонний, предубежденный (латин.). *)
Поэтому в данный момент я раздумываю, не следует ли прекратить дальнейшую
работу над этой книгой. Но до тех пор, пока внутренний голос не запретит
мне, я буду писать. Я следую мудрому правилу: однажды начатое дело нельзя
бросить, если только оно не окажется нравственно вредным.
Я пишу автобиографию не для того, чтобы доставить удовольствие критикам.
Сама работа над ней — это тоже поиски истины. Одна из целей этой
автобиографии, конечно, состоит в том, чтобы ободрить моих товарищей по
работе и дать им пищу для размышлений. Я начал писать эту книгу по их
настоянию. Ее бы не было, если бы не Джерамдас и Свами Ананд. Поэтому, если
я неправ, что пишу