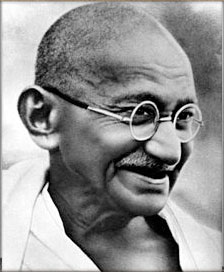повелевает долг, и тогда становилось легче.
Мой друг был не из тех, кто быстро сдается. Он стал приготовлять
изысканные мясные блюда в приятной сервировке.
Мы ели их уже не в укромном местечке на берегу реки, а в ресторане
правительственного здания, где стояли столы и стулья. Мой приятель сумел
здесь договориться с главным поваром.
Эта приманка сделала свое дело. Я поддался соблазну, поборол свое
отвращение к хлебу, справился с жалостью к козам и пристрастился, если не к
самому мясу, то, во всяком случае, к мясным блюдам. Так продолжалось около
года. Но пиршеств этих в общей сложности было не более шести, так как в
правительственное здание пускали не каждый день, и, кроме того, было просто
затруднительно часто заказывать дорогие мясные блюда. У меня не было денег, чтобы платить за «реформу». Моему другу постоянно приходилось изыскивать для
этого средства. Я не знаю, где он их брал. Но он их доставал, так как твердо
решил приучить меня к мясу. Однако, видимо, и его возможности были
ограничены, поэтому пиршества устраивались через большие промежутки времени.
В те дни, когда я принимал участие в этих тайных пиршествах, я не обедал
дома. Мать звала меня и хотела знать причину моего отказа. Я обычно отвечал
ей: «У меня сегодня нет аппетита, что-то неладно с желудком». Придумывая
отговорки, я испытывал угрызения совести, так как сознавал, что лгу и притом
лгу матери. Я знал также, что если мать с отцом узнают о том, что я ем мясо, они будут глубоко потрясены. Мысль об этом терзала мое сердце.
Поэтому я сказал себе: «Хотя есть мясо, конечно, нужно и провести в нашей
стране реформу питания необходимо, все же лгать отцу и матери еще хуже, чем
есть мясо. Следовательно, пока живы родители, надо от мяса отказаться. Когда
их не станет и я буду свободным, я буду открыто есть мясо, а пока
воздержусь».
О своем решении я сообщил другу и с тех пор ни разу не прикоснулся к мясу.
Мои родители так и не узнали, что два их сына ели мясо.
Я отказался от мяса, руководствуясь лишь чистым побуждением не лгать
родителям. Но с другом я не порвал. Мое стремление исправить его оказалось
для меня гибельным, но я этого совершенно не замечал.
Дружба с ним однажды чуть не довела меня до измены жене. Я спасся чудом.
Друг повел меня в публичный дом. Он дал мне необходимые разъяснения. Все
было предусмотрено, даже счет был оплачен. Я направился прямо в объятия
греха, но бог в своей безграничной милости спас меня от меня самого. Я
внезапно оглох и ослеп в этом прибежище порока. Я сел около женщины на ее
постель и молчал. Ей это, конечно, надоело, и, осыпав меня бранью и
оскорблениями, она указала на дверь. Тогда я почувствовал, что мое мужское
достоинство унижено, и готов был провалиться сквозь землю от стыда. Но
впоследствии я не переставал благодарить бога за то, что он спас меня. У
меня было в жизни еще четыре подобных злоключения, и каждый раз меня спасала
моя счастливая судьба, а не какое-либо усилие с моей стороны. С чисто
этической точки зрения эти случаи необходимо рассматривать как моральное
падение. Налицо было плотское желание, а это равносильно действию. Но с
точки зрения обычной морали человек, физически устранившийся от греха, считается спасенным. И я был спасен именно в этом смысле. В некоторых
случаях человеку удается избежать греха в силу счастливой случайности. Как
только человек вновь обретает способность истинного познания, он благодарит
божественное милосердие за то, что ему удалось избежать грехопадения. Как
известно, человек часто подвергается искушению, как бы он ни старался
противостоять ему. Мы знаем также, что очень часто провидение вмешивается и
спасает его вопреки его желанию. Как все это происходит, в какой степени
человек свободен и в какой степени он жертва стечения обстоятельств, в каких
пределах имеет место свободное волеизъявление и когда на сцене появляется
судьба — все это тайна и останется тайной.
Однако продолжим наше повествование. Но и это не открыло мне глаза на
порочность моего друга. Мне пришлось пережить еще более горькие
разочарования, пока, наконец, мои глаза по-настоящему раскрылись, ибо я
наглядно убедился в некоторых его недостатках, о которых даже и не
подозревал. О них я расскажу дальше, так как наше повествование ведется в
хронологическом порядке.
Должен отметить еще один факт, относящийся к тому же периоду. Безусловно, одной из причин моих разногласий с женой была дружба с этим человеком. Я был
верным и в то же время ревнивым мужем. Друг же всячески раздувал пламя моей
подозрительности по отношению к жене. Я не сомневался в его искренности, и я
никогда не прощу себе страданий, которые я причинял жене, действуя по его
наущению. Вероятно, только жена индуса может вынести такие испытания.
Поэтому я привык смотреть на женщину как на воплощение терпения.
Несправедливо заподозренный слуга может бросить работу, сын при подобных
обстоятельствах может покинуть дом отца, друг — порвать дружбу. Жена же, если она и заподозрит мужа, будет молчать, но если он заподозрит ее, — она
погибла. Куда она пойдет? Жена индуса не может требовать развода в судебном
порядке. Закон ей не поможет. И потому я не могу забыть и простить себе, что
доводил жену до отчаяния.
Яд подозрений исчез только тогда, когда я понял ахимсу во всех ее
проявлениях. Я постиг все величие брахмачария и понял, что жена не раба, а
товарищ и помощник мужа, призванный делить с ним поровну все радости и
печали. Как и муж, жена имеет право идти собственным путем. Когда я
вспоминаю эти мрачные дни сомнений и подозрений, меня охватывает гнев. Я
презираю себя за безумие и похотливую жестокость, за слепую преданность
другу.
Должен поведать еще о нескольких случаях своего падения, относящихся к
периоду, когда я ел мясо, и до того, то есть еще до своей женитьбы или
вскоре после нее.
Вместе с одним из своих родственников я пристрастился к курению. Нельзя
сказать, чтобы курение или запах сигарет доставляли нам удовольствие. Просто
нам нравилось пускать облака дыма изо рта. Дядя мой курил, и мы решили, что
должны последовать его примеру, а так как денег у нас не было, мы стали
подбирать брошенные дядей окурки.
Но не всегда можно было найти окурки и, кроме того, в них почти нечего
было докуривать. Тогда мы стали красть у слуги медяки из его карманных денег
и покупать на них индийские сигареты. Но где их хранить? Мы не смели, конечно, курить в присутствии старших. Несколько недель мы обходились
ворованными медяками. Тем временем мы прослышали, что стебли какого-то
растения обладают пористостью и их можно курить, как сигареты. Мы достали их
и начали курить.
Но этого было мало. Нам хотелось независимости. Казалось невыносимым, что
ничего нельзя предпринять без разрешения старших. Недовольство наше в конце
концов достигло такой степени, что мы решили покончить самоубийством.
Но как это сделать? Где достать яд? Где-то прослышав, что семена датуры
действуют как сильный яд, мы отправились в джунгли и набрали их. Самым
подходящим временем для свершения нашего дела нам казался вечер. Мы пошли в
Кедарджи мандир, положили гхи в храмовый светильник, совершили даршан и
стали искать укромный уголок. Но вдруг мужество нас покинуло. А что, если мы
умрем не сразу? Да и что хорошего в том, чтобы самим убить себя? Не лучше ли
примириться с отсутствием независимости? Но мы все-таки проглотили по
два-три зерна, не отважившись на большее. Мы оба побороли свой страх перед
смертью и решили отправиться в Рамаджи мандир, чтобы успокоиться и отогнать
Я понял, что гораздо легче задумать самоубийство, чем совершить его. И с
тех пор, когда мне приходилось слышать угрозу покончить с собой, это не
производило на меня почти никакого впечатления.
Эпизод с самоубийством закончился тем, что мы оба перестали подбирать
окурки и красть медяки у прислуги для покупки сигарет.
Желания курить не появилось у меня и тогда, когда я стал взрослым.
Привычку эту считаю варварской, нечистой и вредной. Я никогда не понимал, почему во всем мире существует такое увлечение курением. Я не могу
путешествовать, если в купе много курящих — задыхаюсь.
Но я совершил еще более серьезную кражу несколько позже. Медяки я воровал
в двенадцать-тринадцать лет. Следующую кражу я совершил в пятнадцать лет. На
этот раз я украл кусочек золота из запястья своего брата, того самого, который ел мясо. Брат как-то задолжал 25 рупий. Он носил на руке тяжелое
золотое запястье. Вынуть кусочек золота из него было совсем нетрудно.
Мы так и сделали, и долг был погашен. Но меня стала мучить совесть. Я дал
себе слово никогда больше не красть и решил признаться во всем отцу. Однако
у меня не хватало смелости заговорить с ним об этом. Не то, чтобы я очень
боялся побоев. Нет. Я не помню, чтобы отец бил кого-нибудь из нас. Я боялся
огорчить его. Но я чувствовал, что рискнуть необходимо, что нельзя
очиститься без чистосердечного признания.
Наконец, я решил покаяться письменно, вручить это покаяние отцу и
попросить прощения. Я написал покаяние на листе бумаги и отдал отцу. В этой
записке я не только сознался в своих грехах, но и просил назначить мне
соответствующее наказание. Заканчивал я письмо просьбой, чтобы он не сам
наказывал меня. Я обещал никогда больше не красть.
Дрожа, я передал свою исповедь отцу. Он был тогда болен: у него был свищ, и он вынужден был лежать. Постелью ему служили простые деревянные нары. Я
отдал ему записку и сел напротив.
Отец прочел мое письмо и заплакал. Жемчужные капли катились по его щекам и
падали на бумагу. На минуту он в задумчивости закрыл глаза, потом разорвал
письмо. Читая письмо, он сидел, теперь снова лег. Я тоже громко зарыдал. Я
видел, как страдает отец. Будь я художником, я и сегодня мог бы нарисовать
эту картину — так жива она в моей памяти.
Жемчужные капли любви очистили мое сердце и смыли грех. Только тот, кто
пережил такую любовь, знает, что это такое. Как говорится в молитве:
Только тот,
Кто пронзен стрелами любви,
Знает ее силу.
Для меня это был предметный урок по ахимсе. В то время я видел в
происходившем только проявление отцовской любви, но сегодня я знаю, что это
была настоящая ахимса. Когда ахимса бывает всеобъемлющей, она преобразует
все, чего коснется. Тогда нет пределов ее власти.
Так великодушно прощать отнюдь не было свойственно отцу. Я думал, что он
будет сердиться, хмуриться и резко выговаривать мне. Но он был удивительно
спокоен. И я думаю, что это произошло лишь благодаря чистосердечности моего
признания. Чистосердечное признание и обещание никогда больше не грешить, данное тому, кто имеет право принять его, является самой чистой формой
покаяния. Я знаю, что мое признание совершенно успокоило отца и беспредельно
усилило его любовь ко мне.
IX. СМЕРТЬ ОТЦА И МОЙ ДВОЙНОЙ ПОЗОР
Мне шел шестнадцатый год. Отец мой был прикован к постели: у него, как я
уже говорил, был свищ. Ухаживали за ним главным образом мать, старая
служанка и я. На мне лежали обязанности сиделки, которые