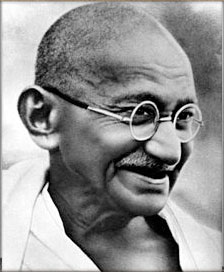Мужчин было тоже очень мало. Со мной был заранее составленный
проект резолюции. Прежде чем прочитать его, я подробно разъяснил значение
этой резолюции. Малочисленность присутствовавших не смутила и не удивила
меня. Я давно заметил пристрастие людей к активной деятельности и нелюбовь к
спокойным конструктивным усилиям.
Но этому я посвящу отдельную главу. Теперь же продолжу свой рассказ. В
ночь на 7 апреля я выехал в Дели и в Амритсар. По приезде в Матхуру 8 апреля
до меня дошли слухи о возможном аресте. На следующей станции после Матхуры
встречавший меня Ачарья Джидвани сказал мне вполне определенно, что я буду
арестован, и предложил свои услуги. Я поблагодарил, обещав воспользоваться
ими в случае необходимости.
Поезд был еще на пути к станции Палвал, когда мне вручили приказ о
запрещении въезда в Пенджаб на том основании, что мое присутствие в этой
провинции может вызвать там беспорядки. Полиция предложила мне немедленно
сойти с поезда. Я отказался сделать это, заявив:
— Я еду в Пенджаб по настоятельной просьбе, причем не для того, чтобы
вызвать беспорядки, а наоборот, прекратить их. Поэтому подчиниться вашему
приказу я, к сожалению, не могу. Наконец поезд прибыл в Палвал. Меня
сопровождал Махадев. Я предложил ему поехать в Дели с тем, чтобы
предупредить о случившемся свами Шраддхананджи и обратиться к народу с
просьбой сохранять спокойствие. Он должен был разъяснить, почему я решил не
подчиниться приказу и пострадать за свое неповиновение, а также почему
полнейшее спокойствие в ответ на любое наложенное на меня наказание будет
залогом нашей победы.
В Палвале меня высадили из поезда и взяли под стражу. Вскоре прибыл поезд
из Дели. Меня в сопровождении полицейского посадили в вагон третьего класса.
В Матхуре меня высадили и поместили в полицейские казармы, причем никто из
полицейских не мог сказать, что со мной будет дальше и куда меня повезут. В
4 часа утра меня разбудили и посадили в товарный поезд, направлявшийся в
Бомбей. Днем меня заставили сойти в Савай-Мадхопуре. Я поступил в
распоряжение инспектора полиции м-ра Боуринга, который прибыл почтовым
поездом из Лахора. Меня посадили вместе с ним в вагон первого класса. Из
обыкновенного арестанта теперь я превратился в арестанта-«джентльмена».
Инспектор начал с длинного панегирика сэру Майклу 0’Двайеру. Сэр Майкл, дескать, против меня лично ничего не имеет: он только боится, что мой приезд
в Пенджаб вызовет там беспорядки и т. д. В заключение он предложил мне
добровольно вернуться в Бомбей и дать обещание не переступать границу
Пенджаба. Я ответил, что, по всей вероятности, не смогу выполнить этот
приказ и вовсе не намерен возвращаться добровольно.
Видя, что со мной сделать ничего нельзя, инспектор заявил, что в таком
случае ему придется действовать согласно закону.
— Что же вы со мной собираетесь делать? — спросил я.
Он ответил, что пока еще не знает, но ждет дальнейших распоряжений.
— Пока что, — сказал он, — я везу вас в Бомбей. Мы прибыли в Сурат. Здесь
меня сдали другому полицейскому офицеру.
— Вы свободны, — сказал он мне, когда мы подъезжали к Бомбею, — но было бы
лучше, если бы вы вышли у Мерин-Лайнс, я остановлю там для вас поезд. В
Колабе может оказаться слишком много народу.
Я ответил, что рад исполнить его желание. Ему это понравилось, и он
поблагодарил меня. Я вышел у Мерин-Лайнс. Как раз в тот момент проезжал в
своей коляске один мой приятель. Он посадил меня к себе и довез до дома
Реваншанкара Джхавери. Друг рассказал, что слухи о моем аресте очень
взбудоражили народ, привели его в неистовство.
— Ожидают, что с минуты на минуту вспыхнет восстание в районе Пайдхуни.
Судья и полиция уже там, — добавил он.
Не успел я прибыть на место, как ко мне явились Умар Собани и Анасуябехн и
предложили поехать тотчас же на автомобиле в Пайдхуни.
— Народ так возбужден, что мы не в состоянии умиротворить его, — говорили
они. — Подействовать может лишь ваше присутствие.
Я сел в автомобиль. Около Пайдхуни собралась огромная толпа. Увидев меня, люди буквально обезумели от радости. Мгновенно организовалась процессия.
Раздавались крики «Банде Матарам» (*) и «Аллах-и-акбар» (**). В Пайдхуни мы
столкнулись с отрядом конной полиции. Из толпы полетели обломки кирпичей. Я
убеждал толпу сохранять спокойствие, но, казалось, град кирпичей неиссякаем.
С улицы Абдур Рахмана процессия направилась к Кроуфорд Маркет, где
столкнулась с новым отрядом конной полиции, преградившей ей дорогу к Форту.
Толпа сжалась и почти что прорвалась через полицейский кордон. Поднялся
такой шум, что моего голоса совершенно не стало слышно. Начальник конной
полиции отдал приказ рассеять толпу. Конные полицейские, размахивая пиками, бросились на людей. В какой-то момент мне показалось, что я пострадаю. Но
мои опасения были напрасны. Уланы пронеслись мимо, только грохнув пиками по
автомобилю. Вскоре ряды процессии смешались, возник полнейший беспорядок.
Народ обратился в бегство. Некоторые были сбиты с ног и раздавлены, другие
сильно изувечены. Выбраться из бурлящего скопления человеческих тел было
невозможно. Уланы, не глядя, пробивались через толпу. Не думаю, чтобы они
отдавали себе отчет в своих действиях. Зрелище было страшное. Пешие и конные
смешались в диком беспорядке.
(* «Банде Матарам!» — «Привет тебе, Родина-мать!» — Начальные слова гимна
бенгальского поэта Б. Ч. Чаттерджи (1838-1894). *)
(** «Аллах-и-акбар!» («Велик Аллах!») — восклицание, принятое у мусульман.
**)
Так толпа была рассеяна, и дальнейшее шествие приостановлено. Наш
автомобиль получил разрешение двинуться дальше. Я остановился перед
резиденцией комиссара и направился к нему, чтобы пожаловаться на полицию.
XXXII. НЕЗАБЫВАЕМАЯ НЕДЕЛЯ (продолжение)
Итак, я отправился к комиссару м-ру Гриффиту. Лестница, ведущая в кабинет, была запружена солдатами, вооруженными с ног до головы словно для военных
действий. На веранде царило возбуждение. Когда я вошел в кабинет комиссара, я увидел м-ра Боуринга, сидевшего рядом с м-ром Гриффитом.
Я рассказал комиссару о сценах, свидетелем которых был. Он резко ответил:
— Я не хотел допустить толпу к Форту — беспорядки были бы тогда неизбежны.
Увидев, что толпа не поддается никаким увещаниям, я вынужден был отдать
приказ конной полиции рассеять толпу.
— Но, — возразил я, — вы ведь знали, каковы будут последствия. Лошади
буквально топтали людей. Я считаю, что не было никакой необходимости
высылать так много конных полицейских.
— Не вам судить об этом, — сказал комиссар. — Мы, полицейские офицеры, хорошо знаем, какое влияние на народ имеет ваше учение. И если бы мы вовремя
не приняли жестких мер, мы не были бы господами положения. Уверяю вас, что
вам не удастся удержать народ под своим контролем. Он очень быстро усвоит
вашу проповедь неповиновения законам, но не поймет необходимости сохранять
спокойствие. Лично я не сомневаюсь в ваших намерениях, но народ вас не
поймет. Он будет следовать своим инстинктам.
— В этом я не согласен с вами, — сказал я. — Наш народ по природе
противник насилия, он миролюбив.
Так мы спорили довольно долго. Наконец, м-р Гриффит спросил:
— Предположим, вы убедитесь, что народ не понимает вашего учения, что вы
— Если бы я в этом убедился, я бы приостановил гражданское неповиновение,
— ответил я.
— Что же вы хотите этим сказать? Вы сказали м-ру Боурингу, что поедете в
Пенджаб, как только вас освободят.
— Да, я хотел отправиться туда следующим же поездом. Но сегодня об этом не
— Подождите еще немного и вы убедитесь, что народ не понимает ваше учение.
Знаете ли вы, что делается в Ахмадабаде? А что было в Амритсаре? Народ
буквально обезумел. Я еще не располагаю полной информацией. Телеграфные
провода в некоторых местах перерезаны. Предупреждаю, что ответственность за
эти беспорядки ложится на вас.
— Уверяю вас, я охотно возьму на себя ответственность, если в этом будет
необходимость. Я был бы очень огорчен и удивлен, если бы узнал, что в
Ахмадабаде произошли беспорядки. Но за Амритсар я не отвечаю. Там я никогда
не был, и ни один человек меня там не знает. Я вполне убежден, что если бы
пенджабское правительство не препятствовало моему приезду в Пенджаб, мне
удалось бы оказать значительную помощь в поддержании спокойствия в этой
провинции. Задержав меня, правительство только спровоцировало население на
волнения.
Так мы спорили и никак не могли договориться. Я заявил комиссару, что
решил выступить на митинге в Чоупати с обращением к населению сохранять
спокойствие. На этом мы распрощались.
Митинг состоялся на чоупатийских песках. Я говорил о необходимости
ненасилия, об ограниченности сатьяграхи, заявив:
— Сатьяграха, в сущности, есть оружие верных истине. Сатьяграх клянется не
прибегать к насилию, и до тех пор, пока народ не будет соблюдать это в
мыслях, словах и поступках, я не могу объявить массовой сатьяграхи.
Анасуябехн также получила сведения о беспорядках в Ахмадабаде. Кто-то
распространил слух, что и она арестована. фабричные рабочие при этом
известии буквально обезумели, бросили работу, совершили ряд насильственных
актов и избили до смерти одного сержанта.
Я поехал в Ахмадабад. Я узнал, что была попытка разобрать рельсы около
Надиада, что в Вирамгаме убит правительственный чиновник, а в Ахмадабаде
объявлено военное положение. Люди были охвачены ужасом. Они позволили себе
совершить насилие и с избытком расплачивались за это.
На вокзале меня встретил полицейский офицер и проводил к
правительственному комиссару Пратту. Тот был в бешенстве. Я вежливо
заговорил с ним, выразив при этом сожаление по поводу происшедших
беспорядков. Я заявил, что в военном положении нет никакой необходимости, и
выразил готовность приложить все силы для восстановления спокойствия. Я
попросил разрешения созвать митинг на территории ашрама Сабармати. Ему
понравилось мое предложение. Митинг состоялся в воскресенье 13 апреля, а
военное положение было отменено то ли в тот же день, то ли на другой день.
Выступая на митинге, я старался показать народу его неправоту и, наложив на
себя знак покаяния, трехдневный пост, предложил всем также поститься один
день, а виноватым в совершении насилия покаяться в своей вине.
Мои обязанности были мне совершенно ясны. Для меня было невыносимо думать, что рабочие, среди которых я провел так много времени, которым я служил и от
которых ожидал лучшего, принимали участие в бунте. Я чувствовал, что должен
Предложив народу покаяться, я вместе с тем предложил правительству
простить народу эти преступления. Но ни та, ни другая сторона моих
предложений не приняла.
Ко мне явился ныне покойный сэр Раманбхай и несколько других граждан
Ахмадабада с просьбой приостановить сатьяграху. Это было излишне, я и сам
уже решил сделать это, пока народ не усвоит урока мира. Друзья мои ушли
совершенно счастливые.
Но были и такие, которые по той же самой причине почувствовали себя
несчастными. Они считали, что массовая сатьяграха никогда не осуществится, если я ставлю непременным условием проведения сатьяграхи мирное поведение
населения. К сожалению, я не мог согласиться с ними. Если даже те, среди
которых я работал и которых считал вполне подготовленными к ненасилию и
самопожертвованию не могли воздержаться от насилия, то ясно, что сатьяграха
невозможна. Я был твердо убежден, что тот, кто хочет руководить народом в
сатьяграхе, должен уметь удержать его в границах ненасилия. Этого мнения я
придерживаюсь и теперь.
XXXIII. «ОШИБКА ОГРОМНАЯ, КАК ГИМАЛАИ»
Почти сразу же после митинга в Ахмадабаде я уехал в Надиад. Там-то я
впервые употребил выражение: «Ошибка огромная, как Гималаи», которому
суждено было стать крылатым. Еще в Ахмадабаде у меня было смутное