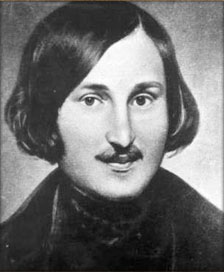вот происхождение «Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество <…>». Разумеется, в этом высказывании необходимо различать отпечаток позднейших представлений. И тем не менее сатирическое и моралистическое задания были в комедии тесно связаны.
Премьера «Ревизора» на сцене петербургского Александринского театра состоялась 19 апреля 1836 года. Однако ни сам спектакль, ни – в особенности – его восприятие публикой не оправдали надежд автора, который связывал с комедией планы нравственного обновления общества. «Все против меня» (М. С. Щепкину от 29 апреля 1836 г.) – эта формула, многократно варьируемая в гоголевских письмах, точно выразила суть его впечатлений. Вывод писателя был преувеличенным и односторонним: среди читателей и зрителей «Ревизора» было много не только его хулителей, но и защитников. Однако, может быть, именно необъективность гоголевского отзыва яснее всего передает силу охватившего художника разочарования, разительность контраста между ожидаемой и подлинной реакцией на произведение. Вместе с тем в событиях, связанных с премьерой комедии, отчетливо проявились такие черты психологического склада Гоголя, как его особая ранимость, преувеличенность реакции на внешние впечатления, резкие колебания настроения.
Постановка «Ревизора» вызвала в жизни Гоголя один из тех кризисов, которые позднее характеризовали его внутреннее развитие. Письма 1836 года показывают, насколько болезненно пережил писатель неудачу своей комедии. Если ранее ему была свойственна «жажда современной славы» (М. П. Погодину от 20 февраля 1833 г.), то теперь, под влиянием горького опыта, к нему приходит ощущение острой конфликтности своих взаимоотношений с публикой, он начинает сознавать тяготы судьбы «комического писателя», движимого стремлением к добру и истине, но в ответ встречающего «восстание» «целых сословий» (М. С. Щепкину от 29 апреля и М. П. Погодину от 10 мая 1836 г.). В гоголевском истолковании собственного пути появляются элементы мистицизма («Все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким провидением на мое воспитание», – писал он М. П. Погодину 15 мая 1836 г.), идея избранничества. Под влиянием пережитых им потрясений писатель принимает решение уехать за границу. «<…> там, – пишет он 10 мая 1836 года М. П. Погодину, – размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне».
6 июня 1836 года Гоголь уехал. Начался период его заграничной жизни, лишь дважды (осенью 1839 – весной 1840 годов и осенью 1841 – весной 1842 годов) прерванной приездами в Россию. В сознании самого Гоголя отъезд рисуется как некий рубеж в его писательской биографии и даже – как ее подлинное начало. Непониманию публики он противопоставляет гордое ощущение собственной творческой силы. «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек, – пишет он вскоре после отъезда В. А. Жуковскому. – Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст» (16 (28) июня 1836 г.).
Жизнь Гоголя за границей проходит преимущественно в кругу соотечественников. Он встречается с А. О. Смирновой и семьей Балабиных, гостит во Франкфурте у В. А. Жуковского, в Ганау знакомится с Н. М. Языковым, а в Риме – с А. А. Ивановым. Его навещают М. П. Погодин, С. П. Шевырев, П. В. Анненков… Однако эти встречи не утоляют потребности писателя в общении. Интенсивность его эпистолярных контактов заметно возрастает. Гоголевская переписка заграничных лет велика по объему. Из пяти томов, занимаемых письмами Гоголя в академическом издании собрания его сочинений, три составлены из писем 1836–1848 годов. К тому же периоду относится и около двух третей всех известных сегодня писем его корреспондентов. Они помогают Гоголю поддерживать связь с родиной, доносят информацию о событиях русской литературно-общественной жизни – появлении «Героя нашего времени» и литературном дебюте Ф. М. Достоевского, полемике В. Г. Белинского и К. С. Аксакова вокруг «Мертвых душ», основании нового «Современника», публичных лекциях Т. Н. Грановского и С. П. Шевырева, московских спорах славянофилов и западников.
География заграничных писем Гоголя пестра. Это Италия и Франция, Швейцария и Австрия, большие и малые города Германии, Константинополь, Ближний Восток. Значительное место в письмах, особенно в первое время после отъезда из России, занимают зарубежные впечатления. Наиболее сильным из них является Рим. Гоголь впервые посетил этот город в 1837 году. В дальнейшем Рим стал любимым местом его пребывания вне России, а «римская» тема – одной из ведущих в эпистолярном творчестве заграничных лет. Она ярко звучит в переписке с В. А. Жуковским, П. А. Плетневым и в особенности с бывшей ученицей Гоголя М. П. Балабиной. В горячем, глубоком, прочном чувстве, которое писатель испытывает к Риму – «родине души», как он его называет, соединяются симпатия к его жителям, восхищение природой, великими произведениями искусства, историческим прошлым. В этом восторженном чувстве проявляют себя эстетические вкусы Гоголя, его пристрастия как художника и человека. Рим представляется Гоголю идеальным местом для творчества. В его письмах мы находим выразительные описания римской жизни, этого вечно длящегося праздника; входящие в них крошечные рассказы и сценки живо рисуют римский быт, характеры и нравы. Наконец, эти письма замечательны своим особым эмоциональным колоритом, единством лиризма, юмора и патетики.
Римские, парижские, швейцарские письма Гоголя тем более любопытны, что в его художественной прозе, за исключением отрывка «Рим» (часть незавершенного романа «Аннунциата»), пребывание за границей практически не оставило следов. В течение всех этих лет помыслы Гоголя как писателя были связаны с родиной. «Я живу около года в чужой земле, – обращается он к М. П. Погодину из Рима, – вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня» (18 (30) марта 1837 г.). По наблюдениям самого писателя, для успешной работы ему была необходима значительная дистанция по отношению к изображаемой сфере действительности. «<…> в самой природе моей, – писал он П. А. Плетневу, – заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде» (17 марта 1842 г.). Задача создания целостного образа России, о которой идет речь в данном письме, решалась Гоголем в поэме «Мертвые души».
В творчестве и биографии Гоголя «Мертвые души» заняли центральное место. С этим произведением для писателя оказалось связано представление о своей миссии, работе над поэмой было отдано семнадцать лет его жизни. Однако и масштабность замысла «Мертвых душ», и их роль в жизни автора определились не сразу. Картину работы Гоголя над этим великим произведением воссоздает его переписка, в которой отражены различные этапы творческой истории поэмы, начиная от самых ее истоков. (Процесс создания «Мертвых душ» подробно освещен в книге Манна.)
Согласно признанию самого Гоголя (в «Авторской исповеди»), сюжет «Мертвых душ» был подсказан ему Пушкиным. В уже цитированном выше письме к поэту от 7 октября 1835 года Гоголь и упоминает впервые о работе над своим новым сочинением: «Начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтиться. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь». Гораздо отчетливее, чем в этом сообщении, обличительный характер будущего произведения, масштабность его замысла определяются Гоголем в заграничных письмах 1836 года; вместе с тем в них впервые ясно обозначается и то выдающееся место, какое «Мертвым душам» надлежит занять в творческой биографии их автора: «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя», – и далее в том же письме: «Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ <…>» (В. А. Жуковскому от 31 октября (12 ноября) 1836 г.). С течением времени замысел произведения вырисовывался все более и более грандиозным, вместе с тем все дальше и дальше отодвигались предполагаемые сроки завершения всей работы. «Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых душ» <…>, – сообщал Гоголь С. Т. Аксакову 16 (28) декабря 1840 года. – Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы». Как видно, акцент в этом письме делается уже не на завершенной части поэмы, а на ее последующих томах, в которых автор предполагал расширить сферу изображения, коснуться иных, светлых сторон русской жизни: «Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех <…>, раскрыться в последующих томах <…>» (А. О. Смирновой от 13 (25) июля 1845 г.).
Гоголю-художнику было свойственно преуменьшать значение своих уже созданных произведений перед лицом новых замыслов. Так было и с «Мертвыми душами». 26 июня 1842 года, посылая В. А. Жуковскому только что опубликованную первую часть поэмы, Гоголь писал о ее «малозначительности в сравнении с другими, имеющими ей последовать частями» и уподоблял ее, в отношении к намеченному продолжению, крыльцу, наскоро приделанному к еще не построенному колоссальному зданию. Однако читательская судьба вышедшего произведения живо волновала автора. В письмах к друзьям он не раз повторяет просьбу собирать и передавать ему «толки» о «Мертвых душах», «каковы бы они ни были и от кого бы ни были» (Н. Я. Прокоповичу от 29 августа (10 сентября) 1842 г.). Собранные воедино, письма гоголевских корреспондентов создают действительно полную и в высшей степени разноречивую картину восприятия поэмы ее первыми читателями и свидетельствуют о широком литературно-общественном резонансе произведения. «Они разбудили Русь, – сообщал автору вскоре после выхода «Мертвых душ» М. С. Щепкин. – Она теперь как будто живет. Толков об них несчетное число» (24 октября 1842 г.). «Между восторгом и ожесточенной ненавистью к «Мертвым душам» середины решительно нет – обстоятельство, по моему мнению, очень приятное для тебя», – извещал Гоголя Н. Я. Прокопович (21 октября 1842 г.). В самом деле, в передаваемых откликах соседствуют хвала и брань, упреки в отсутствии патриотизма и одновременно – в национальном самолюбовании, восприятие книги как