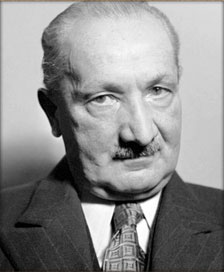над уровнем моря и гораздо
выше всего человеческого!»
Сам факт того, что Ницше специально оговаривает время этой записи, говорит о
необычности ее содержания и замысла. Учение постигается с точки зрения его самого и
учителя.
Надпись «Набросок» сразу же указывает на все в целом, и тем не менее о вечном
возвращении говорится только в пятом пункте и даже там ничего не говорится о его
содержании. Ключевым словом наброска скорее становится «вбирание». Учение означает
«величайшее учение» и «новую тяжесть». Затем следует неожиданный вопрос: «Что мы
делаем с остатком нашей жизни?» Таким образом, речь идет о решающем вторжении в
жизнь, которое отъединяет прошедшее (утекшее) от еще наличествующего «остатка». Повидимому, это становится возможным благодаря мысли о возвращении, которая
преобразует все. Однако то, что предшествует этому вторжению, и то, что следует после
него, отделяются друг от друга не количественно. Прошедшее не отодвигается в сторону.
Пятому пункту предшествуют четыре других, а четвертый завершается указанием на145
«переход». Несмотря на всю свою новизну учение о возвращении возникает не из
пустоты, оно остается вплетенным в «переход». Там, где мы в первую очередь ожидаем
разъяснения основного содержания учения и прежде всего его обоснования и указаний на
это, речь идет только, как мы бы сказали, о воздействии учения на человека, и даже в
первую очередь об этом воздействии на самого учителя и только на него; речь идет о
«вбирании» нового знания и о наставлении этому знанию как о новом виде блаженства.
Из «Заратустры» мы знаем о том, как важен вопрос о «вбирании» мысли, мы знаем также,
что Заратустра стал выздоравливать только после того, как вобрал в себя самое важное из
этой мысли. Если мы вникнем в значение этого слова (Einverleibung), мы вспомним о
«еде», поглощении и переваривании. Вобранное (Einverleibte) укрепляет, утверждает и
упрочивает тело, его плотствование (Leiben), и в то же время оно является тем, благодаря
чему мы сложились и что определяет наше будущее, является соком, который дает нам
силы. Здесь вбирание мысли означает такое ее осмысливание, при котором она с самого
начала превращается в основополагающее отношение к сущему в целом и как таковое
заранее властно пронизывает собой любую другую мысль.
Только тогда, когда эта мысль стала основополагающей установкой всякого
мышления, мы начинаем обладать ею сообразно ее сущности, в-бираем ее (ein-verleiben).
Задающее тон осмысление наброска, озаглавленного как «Возвращение того же
самого», сразу же касается этого «вбирания». Важное значение сохраняет своеобразие
первого наброска. У нас нет «схемы», под которую мы могли бы подогнать характер этого
«наброска» и сделать его привычным для нас; мы должны из самого наброска, а также из
того, что ему принадлежит, выводить свойственную ему схему. Если бы это был набросок
к какому-нибудь сочинению, оно стало бы очень своеобразной книгой, причем не только
по содержанию, но и по тому, как оно «появляется» в качестве книги и затем
«воздействует» или не «воздействует». То, чему там наставляют и что продумывается в
мысли, отходит на задний план перед тем, как этому наставляют и как оно продумывается.
План-набросок представляет собой не что иное, как зародыш плана будущего
произведения «Как говорил Заратустра», следовательно, он как раз не является наброском
к «теоретической», прозаической обработке мысли о возвращении. Уже отсюда
становится ясно, что упомянутое различие совершенно ничего не значит.
Второй относящийся сюда набросок насколько «прозаичен», настолько и
«поэтичен». У него нет заголовка, и он не принадлежит к первому наброску,
приведенному в издании. В записях Ницше он тоже не связан с первым, а соотносится с
отрывком под номером 129, представленном в XII томе. Этот отрывок гласит:
«Было бы ужасно, если бы мы еще верили в грех: то, что мы будем делать,
бесконечно его повторяя,— невинно. Если мысль о вечном возвращении всех вещей не
одолевает тебя, это не вина, но нет и заслуги в том, если она это делает. Обо всех наших
предках мы думаем снисходительнее, чем думали они сами, мы скорбим о заблуждениях,
которые они вобрали в себя, а не об их злодеяниях».
Это место, помимо прочего, дает нам понять, почему в предыдущем наброске под
четвертым номером речь идет о «невинном». Со смертью нравственного Бога из сущего в
целом исчезает греховное и виновное, и необходимость сущего, как оно есть, вступает в
свои права.
Начиная с мысли о возвращении, второй набросок дает следование главных
мыслей в обратном порядке. Он гласит (XII, 426):
«1. Самое могущественное познание.
2. Мнения и заблуждения изменяют человека и наделяют его влечениями или —
вобранными в себя заблуждениями.
3. Необходимость и невинность.
4. Игра жизни».
Этот отрывок, помимо прочего, намечает и другой ракурс: под «необходимостью»
подразумевается не какая-то необходимость, а необходимость сущего в целом. «Игра146
жизни» сразу же напоминает нам изречение Гераклита, мыслителя, которому, как считал
Ницше, он был ближе всего: ???? ???? ???? ??????, ???????? ?????? ? ???????? (Frgm. 52),
«Эон — это ребенок, занятый игрой и играющий в кости; господство принадлежит ему» (а
именно господство над сущим в целом).
Тем самым намекается на то, что сущее в целом властно пронизывает господство
не-винности (Un-schuld). Целое есть ????. Это слово едва ли возможно перевести
адекватно. Оно подразумевает целое мира, но наряду с этим в аспекте времени и
соотнесенности с нашей «жизнью» речь идет о самом жизненном пути. Обычно значение
слова ???? определяют так: под эоном подразумевается «время» «космоса», то есть
природы, которая движется в физическом времени. От этого времени отличают другое
время, которое мы «переживаем». Однако названное в эоне (????) остается по эту сторону
такого различия. Равным образом, в понятие космоса (??????) вкладывают слишком
скудное содержание, когда представляют его космологически.
Ницше употребляет слово «жизнь» в двояком значении. Под ней подразумевается
сущее в целом и в то же время наш способ «привнесенности» в это целое. Равным
образом, двояка по значению и речь об «игре» (ср. первую из «Песен принца
Фогельфрая»»: «К Гете»; приложение ко второму изданию «Веселой науки», 1887 год; см.
Bd. II, S. 380 f).
Созвучие с Гераклитом не случайно, особенно если принять во внимание тот факт,
что примерно в это время Ницше в своих записях часто касается другой мысли, которую,
обычно (и Ницше тоже следует этому обыкновению) называют главной мыслью этого
греческого мыслителя: ????? ??? (все течет), тезис, который, по всей вероятности,
восходит не к Гераклиту, не говоря уже о том, что он якобы характеризует его мышление
(поскольку на самом деле он его искажает).
В последнем наброске мысли о вечном возвращении говорится не столько о
«воздействии» учения на человека и изменении человека и его «экзистенции» внутри
сущего в целом, сколько о самом сущем; здесь более заметен (употребим по сей день
привычное обозначение) «метафизический» характер учения о возвращении, в то время
как в предыдущем наброске верх берет тяготение к его «экзистенциальному» смыслу.
Или, быть может, применительно к философии Ницше различие между «метафизическим»
и «экзистенциальным» (если оно вообще является ясным и содержательным) так же не
годится, как и взятое в ином ракурсе различие между ее теоретико-прозаическим и
поэтическим характером? Это станет ясно позднее.
Опять-таки в ином ракурсе, по-видимому, выстроен и следующий набросок, о
котором издатели говорят, что он является «эскизом поэтической идеи» учения о
возвращении.
Знаки новой жизни
Заратустра, родившийся близ озера Урми, в тридцать лет покинул свою родину,
пошел в провинцию Ария и через десять лет своего одиночества в горах написал ЗендАвесту.
Солнце познания снова в полудне, и змея вечности лежит, свернувшись, в его
лучах: это ваше время, о, полуденные братья!»
В этом наброске ключевым словом является слово «полдень»; «полдень и
вечность»: оба понятия и наименования относятся к идее времени, если мы припомним,
что и вечность мы осмысляем только в контексте времени. Теперь, когда продумывается
мысль о вечном возвращении, «полдень и вечность» одновременно присутствует в одном;
мы могли бы также сказать: мгновение. В этом наброске выбираются высшие определения
времени для заглавия произведения, которое должно рассказывать о сущем в целом и о
новой жизни в нем. В этом образе указывается и на то, как мыслится сущее в его целом:147
змея, умнейшее животное, «змея вечности» лежит, свернувшись кольцом, в полуденном
свете солнца познания. Великолепная картина — и все-таки это не нечто «поэтическое»!
Да, перед нами художественный образ, но только потому, что мысль продумывается до
последних глубин и продумывается именно так; потому, что набросок того, в чем сущее в
целом должно постигаться и возноситься до уровня знания, здесь дерзает самым
решительным образом выйти за свои пределы, но не в безвоздушное и тусклое
пространство заносчивой «спекуляции», а туда, где находится середина человеческого
пути. О полуденном времени, когда солнце стоит в зените и у предметов нет тени,
говорится в заключении первой части «Заратустры»:
«Великий полдень, когда человек стоит посреди своего пути между животным и
сверхчеловеком и празднует свой путь к закату как свою высшую надежду: ибо это путь к
новому утру.
И тогда заходящий сам благословит себя за то, что был переходящим; и солнце его
познания будет стоят у него в полудне.
„Умерли все боги: теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек» — такова должна
быть в великий полдень наша последняя воля!
Так говорил Заратустра».
Когда Заратустра говорит: «Умерли все боги», это означает, что современный
человек, как человек последний, уже перестал быть достаточно сильным для какого-либо
из богов, особенно когда их нельзя просто позаимствовать из предания; предание только
там формируется как сила вот-бытия, где оно поддерживается творческой волей и пока
оно ею поддерживается.
Полдень — это светлая середина пути в истории человека, мгновение перехода в
более ясный свет вечности, где небо раскрывает свои глубины и где до-полуденное и
после-полуденное, прошлое и будущее сталкиваются друг с другом, тем самым полагая
себя во власть решения. Подзаголовок данного наброска звучит как «Полдень и вечность:
знаки новой жизни»: если мы будем ждать каких-то мудрых жизненных советов, то
испытаем разочарование, ибо «новая жизнь» — это новый способ находиться в
средоточии сущего в целом, новый вид истины и тем самым преображение сущего.
О том, что именно так и надо понимать «новую жизнь», свидетельствует четвертый
набросок, написанный еще в августе 1881 года. Он озаглавлен как «К „наброску нового
способа жить»» и разделен на четыре книги, от которых здесь мы имеем лишь
характерные заголовки: 1 книга — «О расчеловечивании (Entmenschlichung) природы»; 2
книга — «О вбирании опыта»; 3 книга — «О последнем счастье одинокого»; 4 книга —
«Annulus aeternitatis». Первая и четвертая книги включают в себя вторую и третью, в
которых говорится о человеке. В первой должно совершиться расчеловечивание природы.
Это означает, что из природы должно быть изъято все человеческое, привнесенное в
сущее в его целом (вина, цель, замысел, предвидение), чтобы потом снова вернуть туда
самого человека (homo natura). Это сущее в целом определяется в четвертой книге как
«кольцо вечности».
В этих четырех набросках, появившихся в течение почти одного месяца, прежде
всего бросается в глаза (и на первых порах мы можем уловить это в общих чертах)
богатство перспектив во вновь и вновь перечисляемых, существенно важных сферах
вопрошания, богатство, которое заставляет Ницше, в принципе, единую и, быть может,
простую область рассматривать в своих набросках со все новых сторон. Это позволяет
предположить, что во время первого раскрытия мысли о вечном возвращении того же
самого, как при раскрытии любой великой