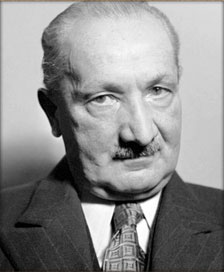якобы сокрытой в мировом процессе, о
некоем «предвидении» в действительных событиях суть только «тени», которые
христианское мироистолкование продолжает сохранять в сущем и его понимании, когда
настоящая вера исчезает. И напротив, расчеловечение сущего, освобождение из себя
восходящего начала, «природы», ?????, natura от всего человеческого должно стать
обезбожением (Entgottlichung) сущего. Поэтому 109 отрывок из «Веселой науки»
завершается с учетом данной взаимосвязи:
«Когда же все эти тени Бога перестанут нас омрачать? Когда мы полностью
обезбожим природу? Когда же мы сможем оприродить человека чистой, вновь
обретенной, вновь искупленной природой!»
Однако в то же время читаем:
«„Очеловечивать» мир, то есть все больше чувствовать себя в нем господами»
(«Der Wille zur Macht», n. 614. См. также n. 616).
Но мы впали бы в еще большее заблуждение, если бы захотели подвести ведущее
понятие Ницше о мире как хаосе под какой-либо расхожий «изм» наподобие
«натурализма» или «материализма» или же на основании этих наименований решили, что
с ним уже покончено. «Материя» (то есть сведение всего к «веществу») такое же
заблуждение, как и бог элеатов (то есть сведение всего к чему-то невещественному). По
отношению к ницшевскому представлению хаоса можно сказать так: только очень
«астматическое» мышление сумеет увидеть в воле к обезбожению сущего волю к
безбожию, а что касается подлинно метафизического мышления, то оно, напротив, в
предельном обезбожении, которое идет до конца и не создает для себя никаких завес,
предугадывает тот путь, на котором только и можно встретить богов, если это вообще еще
возможно в истории человека.
Здесь мы также хотели бы отметить, что приблизительно в то время, когда
появляется мысль о вечном возвращении того же самого, Ницше самым решительным
образом стремится к философскому расчеловечению и обезбожению сущего в целом. Это
стремление не является отголоском его теперь уже затихающего «периода позитивизма»,
как можно было бы предположить; оно имеет свой собственный и более глубокий
источник. Лишь поэтому становится возможным тот факт, что довольно скоро Ницше
повлекло в, казалось бы, противоположную сторону, когда он в своем учении о воле к
власти начинал призывать к высшему очеловечению сущего.
В смысловом горизонте Ницше «хаос» выступает как некое ограждающее от
неверных значений представление, в результате которого о сущем в целом вообще ничего
нельзя сказать. Таким образом, мировое целое становится принципиально недоступным
слову и невыразимым — ???????. То, что Ницше здесь совершает по отношению к
мировому целому, представляет собой определенный вид «отрицательного богословия»,
которое, стремясь постичь абсолют в максимально чистом виде, избегает всех
«относительных» определений, то есть соотносящихся с человеком. Разница только в том,
что ницшевское определение мирового целого представляет собой отрицательное
богословие без христианского Бога.
Такое стремление к умолчанию противостоит проникнутому отчаянием155
разочарованию в возможностях познавания и голой одержимости отрицанием и
разрушением. Поэтому оно вновь и вновь в разных формах всплывает во всяком великом
мышлении. Кроме того, его нельзя сразу же опровергнуть, если только оно сохраняет свой
стиль и не выходит за пределы, которые само себе положило.
Как это выглядит в нашем случае?
В восьми пунктах мы перечислили ряд определений мирового целого, данных
Ницше, а в девятом соотнесли их с основным определением, которое гласит: «Общий
характер мира… извечно хаотичен». Не значит ли это, что теперь мы можем просто
отвергнуть все предыдущие определения и сказать лишь одно — «хаос»? Или они
заключены в понятии «хаоса» и сохраняют себя в нем и его соотнесении с мировым
целым в качестве единственного его определения? Или, может быть, получается совсем
наоборот, и все определения и отношения, принадлежащие к сущности хаоса (сила,
конечность, бесконечность, становление, пространство, время), будучи очеловечением
сущего, упраздняют также и понятие «хаоса»? В таком случае мы вообще не можем дать
никакого определения и можем сказать только одно — «ничто». Но, может быть, «ничто»
— самое человеческое из всех очеловечении? Нам надо вопрошать вплоть до этого
предела, чтобы уяснить все своеобразие стоящей перед нами задачи — задачи
определения сущего в целом.
В первую очередь надо вспомнить, что Ницше не просто определяет мировое целое
как хаос, но приписывает самому хаосу одну проникающую его особенность, каковой
является «необходимость». В «Веселой науке» он недвусмысленно говорит: «Общий
характер мира… хаос, не в смысле отсутствия необходимости, а в смысле отсутствия
порядка» (n. 109). Безначальное и бесконечное, то есть в данном случае вечное
становление ограниченного мира хотя и не имеет порядка в смысле откуда-то
замысленного упорядочения, но тем не менее не лишено необходимости. Мы знаем, что в
западном мышлении этим термином издавна характеризовалось сущее и что
необходимость как его основная особенность претерпела самые разные истолкования:
?????, fatum, судьба, предопределение, диалектический процесс.
10. Положением, которое гласит, что мировой хаос в себе есть необходимость, мы
завершаем ряд наших тезисов, где даем предварительную характеристику мирового
целого, в котором, в качестве основной особенности его бытия, усматривается вечное
возвращение того же самого.
Чего мы достигли, сопоставив девятый и десятый пункты? Мы хотели привнести
внутренний порядок в разрозненные записи и доказательства Ницше, касающиеся учения
о вечном возвращении. Однако ни в одном из этих пунктов не говорилось о вечном
возвращении и ничего не было от тех доказательство, которые Ницше приводил в пользу
этого учения. Вместо этого мы так выстроили весь наш вопрос, что только теперь можем
заняться рассмотрением этих доказательств и тем самым — самого учения о возвращении.
Мы очертили ту область, которой принадлежит мысль о вечном возвращении и
которую эта мысль как таковая касается: сущее в целом охарактеризовано в контексте
этого поля как взаимопроникающее единство живого и безжизненного. Кроме того, мы в
общих чертах обозначили, каким образом сущее в целом устрояется и упрочивается в себе
как это единство живого и безжизненного: для него характерно наличие силы и данная
тем самым конечность целого в единстве с бесконечностью или же безмерностью
«проявляющихся действий». Теперь нам надо показать (и мы можем сделать это только на
основании всего предпосланного), каким образом с сущим в целом (которое в своей
области и согласно своей структуре определено означенным способом) соотносится
вечное возвращение того же самого и как это соотношение доказывается. В любом случае
это единственно возможный порядок, следуя которому мы можем, не сбиваясь, пройти по
всем смысловым лабиринтам Ницше, надеясь к тому же, что сможем это сделать так, как
предначертано внутренней обоснованностью ведущего вопроса философии, вопроса о
сущем как таковом.156
Опасения относительно «очеловечения» сущего
Однако все рассмотрение ницшевского учения о вечном возвращении (и как раз
оно само в первую очередь) вызывает одно опасение, которое в ракурсе размышлений
самого Ницше может сделать несостоятельной всякую дальнейшую попытку понять эту
мысль и обосновать ее: опасение, что и в этой мысли о вечном возвращении того же
самого и как раз именно в ней совершается очеловечение, что она является той мыслью,
на которую прежде всего можно обратить непрестанное предостережение самого Ницше:
«Остережемся!»
С самого начала нашего изложения и довольно часто подчеркивалось, что если
мысль, соотносимая с сущим в целом, одновременно должна соотноситься с
осмысляющим ее человеком и даже прежде всего и всецело должна продумываться
именно в ракурсе человека, тогда это касается и мысли о возвращении. Она была
представлена как «величайшая тяжесть». Это существенное соотнесение мысли с
мыслящим ее человеком, существенная вовлеченность мыслящего в саму мысль и
продуманное в ней, то есть «очеловечение» мысли и представленного в ней сущего в
целом,— все это проявляется в том, что вечность и тем самым время возвращения и,
таким образом, его самого можно постичь только из «мгновения».
Как «мгновение» мы определяем время, в котором будущее и прошедшее
«сталкиваются лбами», в котором сам человек, принимая решение, одолевает их и
совершает их — тем что находится в месте этого столкновения, более того, сам есть это
место. Временность времени такой вечности, которую необходимо мыслить в вечном
возвращении того же самого, есть та временность, в которой прежде всего находится
человек и, насколько нам известно, только он, потому что именно он, раз-решая будущее
и сохраняя минувшее, формирует и выносит настоящее. Поэтому мысль о вечном
возвращении того же самого, возникшая и утвержденная в такой временности, есть
«человеческая» мысль в высшем и исключительном смысле. И кроме того, она, как
кажется, потому вызывает опасение, что ею совершается сравнительно широкое
очеловечение сущего в целом, то есть именно то, чего Ницше хочет избежать всюду и
всеми средствами.
Но как в действительности обстоят с этим опасением очеловечения сущего,
вызываемого мыслью о возвращении? Очевидно, что ответить на этот вопрос мы сможем
только тогда, когда основательно рассмотрим саму эту мысль во всех ее отношениях и
полностью ее продумаем. С другой стороны, в том месте нашего рассмотрения, где, как
мы считаем, нам надо осмыслить доказательства в пользу этой мысли и тем самым ее саму
в ее обоснованности и истине, необходимо прежде всего заострить внимание на том
опасении перед очеловечением, которое грозит сделать все несостоятельным.
Всякое понимание сущего и особенно сущего в его целом уже как понимание
человеком соотнесено с ним самим, то есть исходит от человека. Любое истолкование
такого понимания есть разъяснение того, каким образом человек ориентируется в
понимании сущего и как относится к этому пониманию. Следовательно, истолкование
есть привнесение человеческих представлений и способов представления в сущее. Даже
любое простое отношение к сущему, любое называние сущего в слове есть облачение
этого сущего в человеческий образ, уловление (Einfangen) сущего человеческим
(Menschliche), насколько слово и язык в высшем смысле отличают человеческое бытие.
Поэтому каждое представление о сущем в целом, каждое истолкование мира неизбежно
является очеловечением его.
Такие соображения настолько убедительны, что даже тот, кто коснулся их в самых
общих чертах, не может не видеть, как человек со всем своим представлением,
созерцанием и определением сущего всегда загоняется в тупик своей собственной
человечности. Самому ограниченному человеку можно показать, как непреложно всякое157
человеческое представление берет начало в каком-либо углу этого тупика, независимо от
того, зарождается ли представление о мире в мышлении какого-нибудь отдельного
великого и авторитетного мыслителя или же является постепенно проясняющимся
сгустком представлений каких-либо групп, эпох, народов и их семей. Этот факт Гегель
пояснил меткой ссылкой на наше словоупотребление, которое дает повод для далеко не
самой поверхностной и надуманной игры слов.
Всякое наше представление и созерцание таковы, что в них мы нечто имеем в виду,
имеем в виду сущее. Однако в каждом мнении я сразу же и неизбежно делаю
подразумеваемое мною именно моим. Всякое подразумевание, которое, как кажется,
соотносится только с самим предметом, становится усвоением (Besitznahme) и вбиранием
(Hereinnahme) подразумеваемого в наше человеческое «я». Подразумевание как таковое в
одно и то же время означает представление чего-либо и превращение этого
представленного в нечто свое (Meinige). Однако даже там, где подразумевает не какое-то
обособленное «я», где, по-видимому, мышление какого-либо отдельного человека не
заявляет о себе как нечто полагающее критерий, опасность субъективности только
кажется преодоленной. Очеловечение сущего в целом здесь совершается не в меньшей, а
даже в большей степени, причем не только в смысле охвата, но и, прежде всего, в смысле
его вида, поскольку в том, благодаря чему появляется поначалу непреложная видимость,
никто не подозревает наличие очеловечения, как будто его там вообще нет. Но если
толкование мира неразрывно связано с очеловечением, тогда бесперспективна любая
попытка расчеловечить это очеловечение, так как она опять-таки является попыткой
человека и, стало быть, в конечном счете, является потенциальным очеловечением.
Такие соображения кажутся неопровержимыми, особенно всем тем, кто впервые
сталкивается с таким или