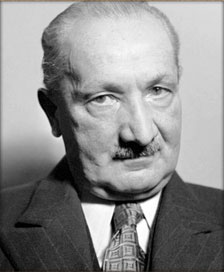подобным ходом мыслей. В большинстве случаев они приводят
человека в такое состояние (если только он сразу же не отказывается от таких мыслей и не
спасается бегством в «практику» «жизни»), когда у него остаются только две
возможности: или усомниться и отчаяться в любой возможности истины и относиться ко
всему лишь как к игре представлений, или, сделав ставку на веру, выбрать для себя какоето одно мироистолкование согласно тому принципу, что лучше какое-то одно, чем вообще
никакого, и пусть оно на самом деле одно, но, быть может, его право на существование
можно обосновать обретаемым им успехом, а также пользой и широтой его
распространения.
Таким образом, по отношению к очеловечению, которое как таковое считается
непреодолимым, существуют две основные позиции: или удовлетвориться тем, что есть, и
двигаться в направлении кажущегося превосходства скептика, который пускается в ничто
и хочет покоя, или дойти до того, что просто позабыть об очеловечении и тем самым
почесть его упраздненным и таким образом обрести покой. Всюду, где опасность
очеловечения преподносится как непреодолимая, каждый раз мы пребываем в
поверхностном состоянии, коль скоро соображения об очеловечении легко
воспринимаются как в высшей степени глубокомысленные и прежде всего «критические».
Каким откровением два века назад (1917г.) для множества людей, незнакомых с
настоящим мышлением и его богатой историей, стала мысль Шпенглера, якобы
осознанная им впервые, мысль о том, что каждая эпоха и каждая культура имеют свое
собственное мировоззрение! На самом деле все это было лишь довольно искусной и
остроумной популяризацией той мысли и вопрошания, которые с давних пор, задолго до
Ницше, продумывались более основательно, но так и не прояснялись и остаются
непроясненными до сего времени. Причина насколько ясна, настолько же весома и трудна
для понимания.
Дело в том, что во всем этом за и против очеловечения считается, что мы
изначально знаем, кто такой человек, от которого это очевидное очеловечение исходит.
Забывают поставить вопросы, которые надо решить в первую очередь, коль скоро
опасение по поводу очеловечения должно получить право на существование, а158
опровержение этого опасения — смысл. Говорить об очеловечении, не решив, то есть не
задав вопроса о том, кто такой человек, значит просто болтать, и эта болтовня остается
таковой даже тогда, когда ее обнаруживает вся мировая история и древнейшие культуры
человечества. Таким образом, для того, чтобы не поверхностно и не ради одной лишь
видимости рассуждать об опасении очеловечения, его признании или неприятии,
необходимо прежде всего задать вопрос: кто есть человек? Искусные литераторы, не
слишком над ним задумываясь, тотчас им овладевают, однако для них этот вопрос —
лишь вопросительное предложение в заголовке какой-нибудь книги: он, по существу, не
ставится, догматический ответ на него уже давно найден. На это нечего ответить, но не
надо делать вид, будто на самом деле происходит вопрошание, так как вопрос о том, кто
такой человек,— не такой уж безобидный и его не решить за одну ночь; если возможности
вот-бытия к вопрошанию еще сохраняются, этот вопрос предстает как задача для Европы
в настоящем и будущем столетиях. Ответ на него можно получить только в нормативном
и определяющем формировании истории одних народов в состязании с другими.
Но кто, как не опять-таки сам человек, ставит вопрос о том, кто такой человек, и
отвечает на него? Да, это так, и не следует ли отсюда, что определение сущности человека
также есть лишь очеловечение этой сущности? Вполне возможно,— и такое очеловечение
даже необходимо, а именно в том смысле, что определение сущности человека
совершается человеком. Однако остается вопрос, очеловечивает ли или расчеловечивает
человека это определение его сущности. Существует возможность того, что совершение
(Vollzug) определения сущности человека всегда и с необходимостью остается делом
человека (и в этом отношении оно есть совершение человеческое), но что само определение, его истина, возвышает человека над собой и, таким образом, рас-человечивает его и
тем самым наделяет иной сущностью человеческое совершение сущностного определения
человека. Вопрос о том, кто такой человек, сначала надо пережить как вопрос
необходимый, а для этого вся неотложность данного вопроса должна со всею силою и
всячески пронзить человека. Но одного только осознания необходимости этого вопроса
недостаточно, если прежде не спрашивается о том, что же делает этот вопрос возможным:
откуда, из какого начала должна определяться сущность человека?
В настоящее время эта сущность определяется тем (как уже давно принято считать
в различных вариантах этого мнения), что его описывают как описывают и расчленяют
лягушку или кролика, как будто сразу ясно, что, прибегнув к методу биологии, мы
сможем узнать, что такое живое (не говоря уже о том, что биологическая наука в качестве
своего первого шага предполагает и заранее устанавливает, что для нее должна означать
«жизнь»). Но предвзятое мнение прячут за спиной, боясь на него оглянуться, и не только
потому, что у человека так много общего с лягушками и прочей тварью, но и из страха
перед этим мнением, из страха, что, если они посмотрят назад, наука внезапно разлетится
вдребезги и выяснится, что установленные предпосылки вполне достойны того, чтобы
поставить их под вопрос, причем во всех науках без исключения. С каким облегчением
вздохнула бы такая «наука», если бы теперь ей (причем по необходимым историкополитическим причинам) сказали, что народ и государство нуждаются в результатах и
результатах полезных! Хорошо, говорит наука, однако для этого мы нуждаемся в покое,
это понимает всякий, и вот снова воцаряется счастливый покой: можно двигаться дальше
все в той же самой философско-метафизической неосведомленности, какая существовала
полвека назад. Поэтому современная «наука» даже такое освобождение сразу же начинает
переживать на свой лад; сегодня, как никогда, она чувствует себя утвержденной в своей
необходимости и тем самым, как она ошибочно полагает, в своей сущности.
Если бы кто-нибудь раньше времени решил сказать, что наука может утверждать
свою сущность только обретая ее из изначального вопрошания, его сочли бы глупцом и
разрушителем такой «науки», поскольку, дескать, вопрошание об основах приводит к
внутреннему ослаблению, и для такого намерения уже приготовлен красочный ярлык —
«нигилизм». Но с этой неразберихой покончено, покой обретен и, как говорят, студенты159
снова хотят работать! Всеобщее мещанство духа может начинаться заново. «Наука»
совершенно не догадывается о том, что ее прямое притязание на некую практическую
значимость не исключает философского размышления, что, скорее, в момент высшей
практической пользы науки возникает высшая необходимость в размышлении о том, что
никогда нельзя оценивать с точки зрения прямой пользы и выгоды, что привносит в вотбытие высшее беспокойство, но беспокойство не как помеху и путаницу, а как
пробуждение и бодрствование — по отношению к тому покою философской сонливости,
который и есть настоящий нигилизм. Однако нет сомнения в том, что, стремясь к
удобству, легче закрыть глаза и бежать от трудных вопросов, говоря, что, дескать, на
такое просто нет времени.
Мы являемся свидетелями примечательной эпохи в жизни человека, в которой уже
не одно десятилетие влечемся вперед, свидетелями времени, у которого больше нет
времени для того, чтобы задать вопрос о том, кто такой человек. Через научное описание
живущего сейчас и уже отжившего человека — будь то биологическое или историческое
описание или же то и другое в их смешении в «антропологиях», которые стали модными в
последние десятилетия — никогда нельзя узнать о том, кто такой человек. Это знание
никогда нельзя обрести и через веру, для которой с самого начала всякое «знание» с
необходимостью является «языческим» и предстает как безумие. Это знание проистекает
только из изначального нахождения в состоянии вопрошаемости. Вопрос о том, кто такой
человек, должен начинаться там, где по самым общим приметам начинается очеловечение
всего сущего — в простом полагании отношения к сущему и назывании его человеком, то
есть в сфере языка. Быть может, через язык человек вовсе не очеловечивает сущее: как раз
наоборот до сих пор он принципиально неверно понимал и истолковывал сущность
самого языка и тем самым свое собственное бытие и его сущностное происхождение.
Однако вместе с вопросом о сущности языка сразу же ставится вопрос о сущем в целом,
если, конечно, язык представляет собой не набор слов для обозначения отдельных
знакомых вещей, а исконное звучание истины мира.
Вопрос о том, кто такой человек, должен уже в самой его постановке принимать во
внимание человека в его отношениях и с его отношениями к сущему в целом и в то же
время ставить под вопрос само это сущее в его целом. Однако, как мы слышали, это сущее
в целом истолковывается только человеком, и теперь сам человек должен
истолковываться в контексте это сущего. Здесь все вращается по кругу. Да, это так,
вопрос только в том, можно ли, и если можно, то как, всерьез подойти к этому кругу,
вместо того, чтобы по-прежнему закрывать на него глаза.
Итак, при толковании мира в контексте мысли о вечном возвращении того же
самого становится ясно, что благодаря осмыслению сущности вечности как полдня и мига
устанавливается отношение к человеку; что здесь свою роль играет тот самый круг,
заставляя осмыслять человека с точки зрения мира, а мир — с точки зрения человека. Это
означало бы, что хотя мысль о вечном возвращении того же самого несет на себе печать
предельного очеловечения, она тем не менее является его противоположностью и хочет
быть таковой. Далее это говорило бы о том, что Ницше, стремясь к расчеловечению
мироистолкования, вовлекается в его предельное очеловечение, что, следовательно, и то,
и другое не исключает друг друга, но друг друга предполагает.
Однако это означало бы, что к учению Ницше о вечном возвращении нельзя
подходить с расхожими мерками, что его надо рассматривать с точки зрения его
собственного закона. Потребовалось бы прежде всего подумать о том, на что вообще
притязают ницшевские доказательства в пользу учения о вечном возвращении и какой
доказательной силой они обладают.
Все это не просто могло бы быть так — так оно и есть на самом деле.
Опасение очеловечения, сколь явно бы оно ни возникало и с какой бы легкостью
ни рассуждал об этом каждый, остается необоснованным и слабым до тех пор, пока не
поставит самое себя перед вопросом о том, кто такой человек, вопросом, который даже не160
задается, не говоря уже о том, что на него нельзя получить ответа без вопроса о том, что
есть сущее в целом. Однако этот вопрос включает в себя другой, еще более изначальный,
который ни Ницше, ни философия до него никогда не раскрывали или не могли раскрыть.
Обоснование учения о возвращении
Осознавая мысль о вечном возвращении того же самого, Ницше вращается в сфере
вопрошания о том, что есть сущее в целом. После того как мы охарактеризовали его в
смысловых пределах и смысловой тональности, установленной Ницше, нам надо
проследить те доказательства (оставляя в стороне опасение очеловечения, само успевшее
стать сомнительным), к которым Ницше прибегает для того, чтобы определить сущее в
целом как вечное возвращение того же самого. Все, по-видимому, зависит теперь от
убедительной силы этих доказательств. Да, все зависит от убедительной силы
доказывания. Всякая доказательная сила слаба, пока мы не постигли вида и сущности
соответствующих доказательств, а они, а также соответствующая возможность и
необходимость доказывания, определяются из того, о каком виде истины идет речь.
Доказательство может быть вполне последовательным, безошибочным с формальнологической точки зрения и тем не менее ничего не