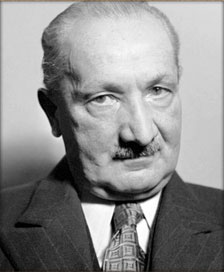другое: и на волю к расчеловечению сущего в целом, и на волю к
принятию всерьез человеческого в-углу-стояния (Eckensteherwesen). Ницше утверждает их
взаимосвязь. Он призывает к тому, чтобы максимально очеловечить сущее и предельно
оприродить человека в нем. Только тот, кто доходит до этого смыслового сопряжения
воль, может что-то смутно понимать в философии Ницше. Однако если вопрос стоит
именно так, тогда тем более решающей становится мысль о том, как именно выглядит
угол, из которого смотрит человек, и откуда определяется местонахождение этого угла.
Одновременно решающим становится и то, сколь широко полагается горизонт
возможного расчеловечения сущего, и совсем уж решающим становится вопрос о том,
является ли со-утверждающим мерилом (и если да, то каким образом) та проекция на
сущее в целом, которая намечается из того угла, в котором оказывается человек, причем167
оказывается с необходимостью.
Хотя Ницше и не прояснял эти взаимосвязи до такой степени, он, тем не менее, как
мы это позднее увидим, своею самою сокровенною волею мысли какое-то время двигался
в их пространстве. С самого начала, излагая его главную мысль, мы видели, как предмет
нашей мысли, а именно мировое целое и само мышление мыслителя, остаются
неразрывными. Теперь мы яснее понимаем, с чем связана эта неразрывность и что она
означает: речь идет о необходимом отношении человека как локально сущего посреди
сущего в целом — к самому этому сущему в целом. Это основополагающее отношение в
поставлении (Ansatz) человека мы вообще осмысляем так: бытие человека — и, насколько
нам известно, только человека — коренится в его вот-бытии; это «здесь» представляет
собой возможное место для необходимого местоположения его бытия. Однако
одновременно из этой сущностной связи мы улавливаем: очеловечение как угроза истине
становится тем беспочвеннее, чем изначальнее человек занимает свой существенный для
него угол, то есть познает и утверждает вот-бытие как таковое. Однако существенность
угла определяется из той изначальности и широты, в которой сущее в целом переживается
и постигается сообразно единственно решающему отношению, а именно отношению
бытия.
Это соображение ясно показывает, что в осмыслении тяжелейшей мысли то, что
мыслится, неотделимо от того, как мыслится, что само это «что» определяется через «как»
и наоборот. Отсюда видно, сколь неверно представлять доводы в пользу мысли о вечном
возвращении по образцу физических и математических доказательств. Что здесь является
и может являться доказательством, надо определять только из самой сущности этой
мысли мыслей.
Принимая во внимания сущностную нерасторжимость «как» мысли и «что» ее
предмета, мы теперь можем сделать еще один решающий вывод. Изначально оказывается
невозможным различие между «теоретическим» содержанием учения и его
«практическим» воздействием. Эту мысль нельзя ни мыслить «теоретически», ни
применять «практически». Первое невозможно потому, что осмысление этой мысли
требует, чтобы человек не только как практически действующий, но и вообще как сущий
со-вступал в совершение мышления, то есть сразу, а не потом определял себя и свой угол
из мыслимого им. До тех пор пока этого определения не происходит, мысль остается
немыслимой и непродуманной и никакая проницательность не может шагнуть вперед ни
на йоту. С другой стороны, «практическое» применение этой мысли тоже невозможно,
потому что оно становится излишним уже в момент ее осмысления.
Если, сообщая о том, что не было опубликовано самим Ницше, мы все-таки
придерживаемся того принципа, которым руководствовались его первые издатели,
распределяя записи философа, и переходим ко второму разделу, который озаглавлен как
«Влияние учения на человечество», мы это делаем только потому, чтобы показать, в какой
мере в этих обособленных отрывках речь все-таки не идет об этом «влиянии». Даже там,
где, казалось бы, Ницше имеет в виду то же самое, мы должны разъяснять его мысли,
исходя из его собственных основополагающих взглядов, а не из тех грубых
представлений, которые появляются в результате, на первый взгляд, ясного различия
между «изложением» учения и его «воздействием». Насколько сомнителен подход
издателей, явствует уже из того, что отрывки под номерами 113 и 114 из первого раздела
так же хорошо и, быть может, даже еще лучше подходят ко второму разделу, в котором
говорится о «влиянии» учения; вероятно, не зря они помещены в конце первого раздела
(«Изложение и обоснование учения»). Ниже мы выделяем основные ракурсы, которые
существенно проясняют то, что сказал Ницше, однако это выделение ни в коей мере не
является достаточным истолкованием.168
Под номерами 115—132 собраны отрывки, в которых «содержание» мысли о
возвращении, как кажется, отходит на второй план. Однако то, что здесь появляется
вместо «содержания», представляет собой не столько «влияние» этой мысли, сколько ее
характер; он проявляется в существенном отношении к продуманному. «Осмыслить» эту
мысль не значит вооружиться каким-нибудь транспортным средством, необходимым для
того, чтобы «проехаться» по ней, тем средством, которое всегда будет оставаться чем-то
внешним по отношению к достигнутому, то есть к продуманному, как, например, в случае
с велосипедом, который может довести до Кайзерштуля, причем как таковой, как
«велосипед», совершенно не будет иметь ничего общего с тем, что называется
«Кайзерштулем». Такой «безучастности», которая наблюдается в отношениях между
велосипедом и Кайзерштулем, нет в отношениях между продумыванием мысли о
возвращении и продуманном и пережитом в ней.
Самая важная характеристика мысли о вечном возвращении того же самого,
которую мы встречаем в этих записях,— «вера».
«Мысль и вера — это бремя, которое давит на тебя вместе со всеми другими
тяжестями и даже больше, чем они» (n.117).
«Будущая история: эта мысль будет побеждать все больше и больше — и не
верующие в нее вымрут по самой своей природе!» (n. 121).
«Это учение доброжелательно к тем, кто не верит в него, у него нет ада и угроз.
Тот, кто не верит, думает о скоротечной жизни» (n. 128). По всей вероятности,
именование мысли верою привело к распространенному мнению о том, что учение о
возвращении представляет собой личное духовное вероисповедание Ницше, которое не
имеет значения для «объективного» содержания его философии и поэтому может быть
устранено из нее, тем более что сама эта мысль в смысловом отношении и без того
достаточно неудобна и не позволяет впихнуть себя в рамки расхожих понятий. Это
мнение, сводящее на нет всякое подлинное понимание философии Ницше, даже находит
свою поддержку в том, что иногда Ницше в своих записях говорит о «религии».
«Эта мысль содержит больше, чем все религии, которые презирали эту жизнь как
мимолетную и учили взирать на неясную иную жизнь» (n. 124).
Нет сомнения в том, что здесь эта мысль связана с содержанием некоторых
религий, которые принижают посюстороннюю жизнь и делают мерилом жизнь
потустороннюю. Поэтому можно предположить, что мысль о вечном возвращении того же
самого есть выражение чистой «посюсторонней» религии Ницше и поэтому она
религиозна, а не философична.
«Остережемся преподносить такое учение как некую внезапную религию!»… «Для
могущественнейшей мысли требуется много тысячелетий,— долго, долго приходится ей
быть маленькой и бессильной!» (n. 130).
Складывается впечатление, что здесь Ницше не прочь считать учение о
возвращении религией, он только против того, чтобы оно воспринималось как некая
«внезапная» религия. И как будто для того, чтобы развеять всякие сомнения на этот счет,
последнее предложение заключительного 132 отрывка гласит:
«Она [мысль о возвращении] должна стать религией самых свободных, самых
веселых и самых возвышенных душ — прелестный луг между позолоченным льдом и
чистым небом!»
Однако это предложение, которое, казалось бы, вырывает мысль о вечном
возвращении из философии, целиком передает ее религии и тем самым грозит одним
ударом покончить со всеми нашими усилиями, в действительности делает обратное, так
как говорит: мы не можем эту мысль и учение превращать в некую расхожую религию и
облекать их в расхожие религиозные формы, эта мысль заново сама определяет сущность
религии, исходя из себя самой; она должна сказать, какой будет религия для человека в
будущем, как будет определяться отношение к Богу и как будет определяться он сам.
Допустим, возразят нам, однако в любом случае речь идет о религии, а не о169
философии, ведь об этой мысли говорится как о вере. Но что здесь означает
«философия»? Так же мало, как и расхожее понятие «религии», мы можем брать в
качестве критерия какое угодно понятие «философии». Здесь сущность этой философии
тоже надо определять из ее собственного мышления и ее собственных мыслей. В
конечном счете, осмысление этой мысли таково, что Ницше может и не только может, но
и должен охарактеризовать его как «веру». Однако при этом сохраняется вполне
очевидное, но тем не менее так и не выполненное требование — выяснить, как сам Ницше
понимает сущность веры. Ясно, что здесь он понимает ее не как согласие с явленным в
Писании и возвещенным с церковной кафедры учением. С другой стороны, вера также не
означает для него уверенности индивида в оправдывающей благодати христианского
Бога.
Что означает вера в соответствии с ее формальным понятием и его еще не
определившимися формами? Ницше характеризует сущность веры следующим образом:
«Что такое вера? Как она возникает? Всякая вера есть удержание чего-либо
истинным» («Der Wille zur Macht», n. 15; 1887).
Отсюда мы теперь можем вывести только одно, но самое важное: вера означает
восприятие представленного (Vorgestelltes) как истинного и тем самым удержание себя
(Sichhalten) при истинном и в истинном. В вере заключено отношение не только к тому, во
что верят (Geglaubte), но прежде всего к самому верующему (Glaubende). Удержаниеистинным есть удержание себя в истинном, которое, таким образом, имеет двойной
смысл: иметь установку и сохранять стояние. Это себя-удержание получает свое
определение из того, что полагается как истинное. При этом остается существенно
важным то, как вообще понимается истина истинного и какое отношение на основании
этого понятия истины возникает между истинным и удержанием себя в нем. Если
удержание себя в истине является образом человеческой жизни, тогда о сущности веры и
особенно о ницшевском понятии веры можно что-то сказать только в том случае, когда
мы выясним его понимание истины как таковой и ее отношения к «жизни», то есть,
согласно Ницше, к сущему в целом. Таким образом, не имея достаточного представления
о том, как Ницше понимает веру, мы вряд ли отважимся сказать, что значит для него
слово «религия», когда он называет свою тяжелейшую мысль «религией самых
свободных, самых веселых и самых возвышенных душ». Кроме того, свободу, о которой
здесь говорится, а также «веселость» и «возвышенность» мы не должны понимать в
соответствии с нашими случайными и расхожими представлениями.
Правда, здесь нам придется отказаться от стремления обстоятельно развить
ницшевское понятие «истины» и себя-удержания в «истине» и при истинном, то есть его
понятие веры, а также изложить его понимание соотношения «религии» и «философии».
Тем не менее применительно к нынешнему контексту мы имеем точку наводки для
нашего истолкования, определенную с помощью самого Ницше, и в качестве
вспомогательного момента приводим некоторые его изречения, относящиеся ко времени
написания «Заратустры» (1882-1884 гг.).
Мы понимаем веру в смысле удержания-истинным как себя-удержание в
истинном; себя-удержание и стояние в истине будут осуществляться тем подлиннее, чем
изначальнее они будут определяться самим стоянием, а не одной только установкой, чем
глубже они будут утверждаться в самих себе и не искать одной лишь внешней опоры, от
которой будут зависеть. Однако в этом направлении Ницше предостерегает всех «самостоящих» (Selbstandigen). Предостережение прежде всего говорит о том, в чем
заключается само-стояние и тем самым устояние.
«Вы, самостоящие — вы должны сами учиться ставить себя или же вы упадете»
(XII, 250, n. 67).
Там, где стояние остается