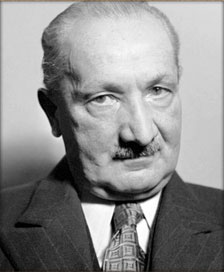подлинными людьми перехода, хотя на первый взгляд
кажется наоборот, так как «переход» означает исчезновение. Беглые, которые не
осмысляют и не могут осмыслять эту мысль, «должны, в конце концов, вымереть по
своей природе! Останется только тот, кто считает, что его бытие может повторяться
вечно: при таких возможно состояние, которого не достиг ни один утопист!» (n. 121).
«Кто не верует, думает о скоротечной жизни» (n. 128).
Мысль «действует» не так, что приводит к каким-то последствиям в более позднее
время: благодаря тому, что она осмысляется, благодаря тому, что осмысляющий ее
поставляет себя в эту истину сущего в целом, благодаря тому, что есть такой вид
мыслящих, изменяется и сущее в целом.
«С того мгновения, когда появляется эта мысль, изменяются все краски и
начинается другая история» (n. 120; ср. n. 114).
Здесь тяжелейшая мысль понимается как мысль, которая начинает другую
историю; дело не только в том, что начинаются другие события: другим становится
характер свершения, действования и творения. Изменяется краска, вид, внешность,
присутствие, бытие. Появляются «густо желтый» и «ярко красный».
Но не пора ли, наконец, на этом месте задать вопрос, который развеет сразу все —
все содержание этой мысли, как воздушный замок? Если все необходимо (мир, хаос
необходимости), если все возвращается в том виде, как оно уже было, тогда всякое
мышление и всякие замыслы становятся излишними, даже изначально невозможными;
тогда все приходит так, как приходит, тогда все равнозначно, и эта мысль, вместо того,
чтобы быть тяжестью, снимает с нас всякую тяжесть и бремя решения и действия,
упраздняет всякий смысл намерения и воления, вовлекает нас в необходимо
совершающееся течение вечной круговерти, одновременно открывает всяческие пути во
всевозможное и беззаконное и, наконец, позволяет погрузиться в чистое бездействие и
ускользание от всего. Кроме того, в таком случае эта мысль — вовсе не «новая» тяжесть, а
очень старая, которую Восток знает под именем фатализма и которая, образно говоря, в
своем многолетии давно занесена песком времени.
Размышляя об этом, мы сразу сталкиваемся с одним вопросом. Если бы мы
отнеслись к нему слишком легко, то есть подошли бы к нему лишь формальнодиалектически, мы действительно не поняли бы, в чем состоит то тяжелейшее, что
заключено в этой тяжелейшей мысли. Кажется, что, вместо того чтобы заставлять нас
принимать высшее и предельное решение, эта мысль позволяет нам погрузиться в пустое
равнодушие. Однако сам факт того, что с подлинной истиной мысли соседствует
видимость ее крайней противоположности, указывает на то, что подлинная философская
мысль требует осмысления. Достаточно немного поразмыслить и кое-что припомнить,
чтобы тотчас увидеть, как проступают очертания того более древнего и старого вопроса, к
которому, как кажется, восходит и теперь возникшая трудность: все сущее как целое и как
полнота деталей его развития заключено в бронзовое кольцо вечного возвращения того же
самого общего состояния. То, что приходит теперь и придет в будущем, есть лишь
возвращение, неизменно предопределенное и необходимое. Но разве в таком случае
сохраняется что-нибудь в этом замкнутом кольце от действования, замыслов и решения,
одним словом — от «свободы»? В этом кольце необходимости свобода насколько
излишня, настолько и невозможна. Но тем самым отрицается и сущность человека,
отрицается возможность его сущности. Если же эта возможность все-таки существует,
тогда совершенно не ясно, как именно.
Ясно, что мысль о вечном возвращении того же самого возвращает к вопросу о
соотношении необходимости и свободы. Отсюда явствует, что эта мысль не может быть,174
как представляет Ницше, мыслью мыслей. Если же мысль о возвращении принадлежит к
области вопроса о соотношении необходимости и свободы, тогда о ее возможной истине в
принципе уже сказано. Можно указать на то, что вопрос о возможном созвучии
необходимости и свободы принадлежит к тем неизбежным и в то же время неразрешимым
вопросам, которые составляют неустранимое противоборство с утверждением того, что,
собственно, и делает их вопросом.
Такие соображения напрашиваются уже при первом знакомстве с учением Ницше о
возвращении. К ним склоняешься еще больше, когда знакомишься с ранними школьными
работами молодого Ницше (Австрия, 1862 год: «Рок и история», «Свобода воли и рок»;
полное историко-критическое издания II, 54—63). Если к тому же мы вспомним о
появившейся почти в ту же пору «биографии», а также о том, что все, продуманное
раньше, впоследствии стало принципиальным средоточием его мышления, тогда нам
покажется, что, включив учение о возвращении в вопрос о необходимости и свободе, мы,
даже с точки зрения Ницше, находимся на правильном пути. И тем не менее при таком
подходе мы пропустим самое важное. Теперь оно должно стать тем более очевидным, что
уже при нашем первом знакомстве с «учением» Ницше мы старались избегать неясных
намеков.
То, на что надо обратить внимание, мы показываем с помощью записей самого
«Мое учение говорит: жить так, чтобы ты желал жить снова — вот задача; тебе это
предстоит в любом случае!» (XII, n. 116).
Кажется, что это последнее («тебе это предстоит в любом случае») делает
излишним саму постановку задачи («жить так»). Для чего желать жить снова и что-то
предпринимать, если все «в любом случае» придет, как оно придет? Если мы именно так
читаем это предложение, мы не читаем его в его истинном свете, не читаем то, о чем оно
говорит, то есть куда оно ведет. Оно обращено к каждому, к «тебе», ко всякому, каков он
есть и как он себя самого понимает. Тем самым осмысление этой мысли отсылает к тому
или иному конкретному «вот-бытию». В нем и из него должно решаться, что есть и что
будет, так как становящееся есть лишь то возвращающееся, что уже было в моей жизни.
Но разве мы знаем, что было? Нет! Можем ли мы вообще это знать? Мы ничего не
знаем о более ранней жизни; все, пережитое нами теперь, мы переживаем впервые, хотя
между этими переживаниями иногда внезапно проглядывает нечто примечательное и
темное: вот это и это, причем так же, как сейчас, ты уже однажды переживал. Начиная
мыслить вспять, мы ничего не узнаем о более ранней «жизни». Но разве мы можем делать
только это? Нет, мы также можем обращаться мыслью в будущее, и в этом заключается
подлинное мышление. В этом мышлении мы в определенном смысле можем наверняка
знать, что было. Разве не удивительно: мысля о будущем, мы постигаем нечто,
находящееся за нами? Конечно, удивительно. Но чтo уже было и чтo снова придет, когда
оно придет? Ответ: то, что наступит в ближайший миг. Если ты в своем малодушии и
неведении отпускаешь от себя вот-бытие со всеми его последствиями, все это вернется и
станет таким, каким уже было. Но если ты свой ближайший миг и, таким образом, каждый
свой миг претворяешь в высший и отмечаешь и удерживаешь его последствия, тогда
вернется именно этот миг и будет то, что уже было: «Торжествует вечность». Однако это
решается в твои мгновения и только в том и из того, что ты сам удерживаешь от сущего и
как держишься в нем — из того, что ты хочешь и можешь хотеть от себя самого.
Напротив, если представлять, что существует только течение событий и ты,
включенный в него, являешься звеном в цепи данностей, которые вновь и вновь
вливаются в бесконечное, вращающееся однообразие,— если представлять себя так
значит не быть у себя самого, не быть как сущее, которое как таковое принадлежит всей
целокупности сущего; представлять человека таким образом значит при окончательном
подведении итогов сбрасывать его со счетов как самость, уподобляясь тому, кто,
перечисляя присутствующих, забывает причислить к ним себя самого. Представлять175
человека таким образом значит вести счет всему извне, а себя самого выкрадывать из
сущего и удерживать вне его. При таком подсчете мы больше не думаем о том, что мы как
временная, себе вверенная самость вверены будущему в воле и что временность
(Zeitlichkeit) человеческого бытия определяется только и единственно тем, какую позицию
человек занимает в этом кольце сущего. Здесь, как и во многих других существенных
отношениях, Ницше не до конца раскрыл свое учение и кое-что оставил сокрытым в
темноте, однако некоторые намеки все яснее дают понять, что он знал об этой мысли
гораздо больше и гораздо сильнее переживал ее, чем об этом можно судить на основании
его записей и даже его собственного изложения. О том, как резко он отвергал внешний,
фаталистический разбор содержания и выводов мысли о вечном возвращении, о том, что
для Ницше такой внешний подход не мог быть мерилом, можно судить по отрывку за
номером 122 (XII, 66):
«Вы мните, что до возрождения будете иметь долгий покой, но вы заблуждаетесь!
Между последним мгновением сознания и первым проблеском новой жизни лежит „безвременье» — оно промелькнет, как молния, даже если бы живущие насчитывали
биллионы лет и не раз. Отсутствие времени и временная последовательность уживаются
друг с другом, как только интеллект исчезает!»
Здесь двоякая возможность видения проступает еще отчетливее: или мы оцениваем
наши отношения к сущему в целом с точки зрения нас самих и на этом основании
принимаем решение, или мы выходим из этого времени нашей временности, но все-таки
именно с помощью этого времени отчисляем целое (Ganze) в бесконечное исчисление.
При этом в каждом случае промежуточный период между каждым возвращением имеет
совершенно различную меру. С точки зрения переживаемой нами нашей собственной
временности между концом одного земного пути и началом другого вообще нет никакого
времени (ср. Аристотель. Физика. Кн. IV. Гл. 10—14), в то время как «объективно»
подсчитанная продолжительность времени превышает даже биллионы лет. Но что такое
эти биллионы в сравнении с вечностью, то есть в то же время и с мгновением
принимаемого нами решения? Однако складывается впечатление, что то, что Ницше здесь
говорит о безвременьи «межвременья», противоречит тому, что он отмечает в другой
записи, относящейся к тому же периоду (n. 114):
«Человек! Вся твоя жизнь вновь и вновь переворачивается, как песочные часы, и
вновь и вновь убегает — одна большая минута времени в промежутке, пока все условия,
из которых ты возник, не соберутся снова воедино в круговращении мира».
Итак, в промежутке пролегает большая минута, и, следовательно, все-таки можно
говорить о том, что в межвременье есть время, «большая минута»! Однако это не
противоречит уже сказанному, а просто сводит воедино оба способа рассмотрения. Какаято одна минута в сравнении с объективно сосчитанными биллионами лет все равно что
отсутствие всякого времени, и в то же время «одна большая минута» должна указывать на
то, что в этом промежутке собрались воедино все условия становления-заново и
возвращения — «все условия, из которых ты сложился». Однако здесь не со-называется
решающее условие: ты сам — способ, которым ты достигаешь своей самости, становясь
властелином над собой, глубинной волей вбирая себя самого в волю и приводя к свободе.
Мы свободны только тогда, когда становимся свободными, а свободными мы становимся
только через нашу волю. Поэтому во второй части «Заратустры» (1883 г.), в разделе «На
блаженных островах» говорится:
«Воля освобождает: таково истинное учение о воле и свободе — ему учит вас
Заратустра».
Мы знаем: Заратустра — учитель вечного возвращения и только его. Таким
образом, через это учение о вечном возвращении того же самого заново ставится вопрос о
свободе и тем самым — о необходимости и их соотношении. Следовательно, мы впадаем
в заблуждение,