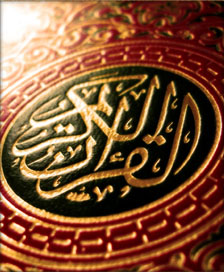бедную городскую молодежь, для которой введение шариата ассоциировалось с социальной революцией. Поддерживая религиозную буржуазию, Эр-Рияд, как и Вашингтон, полагал, что она сумеет более эффективно нейтрализовать эти опасные классы с помощью религиозной лексики и символики, чем это смогли бы сделать националистические элиты, утратившие легитимность и взявшие на вооружение принуждение и репрессии.[70 — Принято считать, что начало американской политики помощи консервативному исламу было положено во время встречи президента Рузвельта и короля Ибн Сауда на борту крейсера «Куинси» в Красном море 14 февраля 1945 г. Встреча состоялась сразу же после Ялтинской конференции. Результатом встречи стало оказание США полной поддержки саудовскому режиму взамен предоставления компании «Арамко» исключительного права на разработку нефтяного месторождения Хаса. Подробнее об американской внешней политике по отношению к исламистскому движению см.: Islamic Activism and U.S. Foreign Policy / Ed. by Scott W. Hibbard, David Little. United States Institute of Peace, 1997. В этой политике прослеживаются две противоположные тенденции: одна предполагает поддержку «умеренных» исламистских движений, отождествляемых с гражданским обществом, борющимся за демократию против авторитарных и автократических режимов и воспринимаемых как противовес «экстремистам». Представители другой считают, что ядро движения находится в заложниках у экстремистов, поэтому они выступают против любого компромисса с «умеренными». Вторая тенденция пользуется поддержкой произраильских групп давления, в то время как в первой заинтересованы те, кто обеспокоен судьбами консервативных нефтедобывающих мусульманских государств. Однако у сторонников обеих теорий есть и общая точка соприкосновения, заключающаяся в чисто идеологическом подходе к исламистскому движению. И те, и другие рассматривают исламистов лишь с одной точки зрения — являются ли они «хорошими» или «плохими парнями». Разумеется, «экстремисты» относятся к последней категории.] Наоборот, поддержка, оказанная Иранской коммунистической партией (Туде) и бывшим Советским Союзом революции в Иране, переход многих бывших марксистов во всем мусульманском мире на исламистские позиции, наконец, содействие французских коммунистических муниципалитетов исламистским молодежным организациям окраин зиждились на уверенности в том, что коль скоро за этим движением пошли «массы», то следовало подчеркивать его «прогрессивный» и народный характер, дабы превратить исламизм в антиимпериалистическое и антикапиталистическое движение,[71 — Поддержка иранской компартией Туде («массы») исламской революции 1978–1979 гг., как и благосклонное отношение к ней мирового коммунистического движения, объясняются в первую очередь ее антиамериканской направленностью. События в Иране были восприняты коммунистами как религиозный вариант революций в странах «третьего мира», которые в предыдущие десятилетия эволюционировали в сторону социализма, как это было в Египте при Наоере.] не допуская взятия его под контроль набожной буржуазией и нейтрализации его революционного потенциала.
Отмеченная социальная двойственность вообще присуща исламистским движениям — она даже составляет саму их суть — и объясняет их сосредоточение на моральных и культурных аспектах религии. Эти движения обретут широкую социальную базу и даже придут к власти, как в Иране, когда станут способны объединить бедную городскую молодежь и набожную буржуазию на основе идеологии, замешанной на религиозной морали и весьма схематичной социальной программе. Каждая составляющая исламистского движения может понять и интерпретировать программу по-своему благодаря полисемии, характерной для религиозной лексики.
Напротив, когда бедная городская молодежь и набожная буржуазия оказываются в разных лагерях, движение терпит поражение в борьбе за власть; идеологическая основа утрачивает свой объединительный характер: возникают многочисленные конкурирующие исламистские дискурсы, взаимно исключающие друг друга. Один из них, именуемый «радикальным», выражает специфические требования неимущей городской молодежи, другой, «умеренный», отражает взгляды религиозной буржуазии. В этой ситуации — алжирская гражданская война 1992–1998 годов представляет здесь крайний случай столкновений между «радикальной» ВИГ (Вооруженной исламской группой) и «умеренной» ИАС (Исламской армией спасения)[72 — Вооруженная исламская группа, появившаяся в Алжире осенью 1992 г., в начале гражданской войны, выступала за насильственный захват власти в отличие от Исламской армии спасения (вооруженного крыла Исламского фронта спасения), предпочитавшей вести диалог с военным режимом с позиции силы (см. ниже ч. 3, гл. 5).] — интеллигенция оказывается слишком слабой, чтобы выработать мобилизационную идеологию, способную сплотить обе составляющие движения. Подобная ситуация, как правило, позволяла правящим элитам надолго раскалывать его ряды, пользуясь склонностью части радикалов к терроризму, что пугало набожную буржуазию: в случае неэффективности репрессивного аппарата государства она могла первой пасть жертвой социальной ярости беднейшей городской молодежи. В том же Алжире шантаж исламистских нотаблей со стороны радикальных групп в 1994–1995 годах был в этом плане весьма показателен. В Египте тот факт, что террор против туристов отрицательно сказался на доходах местных средних классов и простого люда, жившего за счет туристической индустрии, помог государству дискредитировать движение в целом — особенно после бойни в Луксоре осенью 1997 года.[73 — ноября 1997 г. небольшая группа вооруженных исламистов учинила массовое убийство иностранных туристов в храме Хатшепсут близ Луксора в Верхнем Египте (см. ниже ч. 3).] Многие мусульманские государства сумели воспользоваться этими расколами, чтобы перетянуть на сторону власти часть исламистской интеллигенции и религиозной буржуазии, идя на внешнюю исламизацию повседневной жизни, но сохраняя нетронутой социальную иерархию, как это было в Пакистане и Малайзии с конца 70-х годов.
Появление исламистской интеллигенции — первое условие существования движения. Она заявила о себе с начала 70-х годов в студенческих городках Египта, Малайзии и Пакистана, затем распространилась по всему мусульманскому миру, пользуясь связями и финансовым могуществом, которыми располагало ваххабитское течение после октябрьской войны 1973 года. В каждом из этих случаев она приходила на место национализму, подменяя его другими идеалами.
И арабский национализм, и исламизм стремились объединить разнородные социальные классы, первый — растворив их в великом «арабском единстве», второй — сплотив их в рамках виртуальной «общины правоверных». Однако национализм со временем раскололся на два антагонистических лагеря: «прогрессивный» (насеровский Египет, баасистские Сирия и Ирак) и «консервативный» (аравийские монархии и Иордания). Эта «арабская холодная война» превратила противостояние Израилю в единственный фактор объединения, но и по нему был нанесен жестокий удар поражением в шестидневной июньской войне 1967 года. Однако именно прогрессисты и прежде всего Насер — инициаторы войны и жертвы величайшего военного унижения — первыми испытали на себе его тяжелые последствия. Показная отставка президента в день поражения — которую он, впрочем, сам же отменил и использовал как предлог для устранения своих тогдашних соперников — явилась знаковым событием: обещание будущей победы над сионистским государством утратило силу из-за катастрофы 1967 года. Психологическая травма, пережитая арабской интеллигенцией, заставила ее заняться пересмотром многих вопросов, связанных с религией и светскостью. Книга сирийского философа Садека Джаляля аль-Азма «Самокритика после поражения»[74 — Садек Джаляль аль-Азм, заведующий кафедрой философии в Дамасском университете, является одним из ведущих современных арабских мыслителей и защитником светскости. Его книга о войне 1967 г., изданная в Бейруте, вызвала массу комментариев. Среди многих других арабских интеллектуалов, рассматривающих исламистский феномен в контексте кризиса арабского национализма и последствий войны 1967 г., можно упомянуть египетского философа Хасана Ханафи, который стал рупором «исламских левых», пытающихся скрестить идеалы арабских левых со словарем современного исламистского «обновления».] являет собой один из ярких примеров настроений, бытовавших в ту пору в среде интеллигенции. Впоследствии исламисты и сторонники Саудии представят 1967 год как кару свыше за забвение религии. Проигранную войну 1967 года, на которой египетские солдаты шли в бой с кличем: «Земля! Воздух! Море!» — они противопоставят войне 1973 года, когда крики атакующих «Аллах Акбар!» должны были принести их оружию больший успех.
Какой бы ни была интерпретация событий тех лет, поражение в войне заложило мину под идеологический фундамент национализма; образовался вакуум, в который несколькими годами позже вторгнутся идеи исламизма Кутба, прежде имевшие хождение лишь в отдельных кружках «Братьев-мусульман», в тюрьмах и на каторге. В этой идеологической экспансии главная роль принадлежала египетскому студенчеству. Находясь в авангарде мятежной оппозиции власти, оно на первых порах выступало носителем идей левых социалистов, которые ратовали за возобновление военных действий против Израиля, приписывая поражение предательству генералов и корыстных сторонников военного режима. В феврале 1968 года студенты, поддержанные рабочими промышленного городка Хелуана, пригорода Каира, подняли мятеж. Осенью того же года по дельте Нила и Александрии прокатилась волна манифестаций,[75 — Всех интересующихся историей египетского движения 1960–1970 гг. отсылаем к труду, автор которого был одним из главных участников этого движения и в котором приводятся многочисленные свидетельства очевидцев: Abdallah A. The Student Movement and National Politics in Egypt. L.: Al Saqi Books, 1985.] в которых приняли участие отдельные студенты, связанные с «Братьями-мусульманами». Возникновение левого идеологического полюса представляло главную опасность для насеровского режима. Оно поставило под сомнение его прогрессистскую легитимность. Тем более, что в тот момент дело Палестины, которое арабские государства использовали для обоснования националистической идеологии, начало ускользать из-под их контроля. С приходом в 1969 году Ясира Арафата к руководству ООП палестинские организации обрели самостоятельность.
Став вершителями собственной судьбы и символизируя арабское сопротивление Израилю после военного поражения арабских государств, палестинцы сделались — особенно в глазах студенчества — главными фигурами националистической мифологии, которую насеризму уже не удавалось использовать. Напряженность, возникшая между палестинскими формированиями и королем Хусейном, вылилась в сентябре 1970 года в кровопролитные столкновения (события «Черного сентября»), в которых палестинцы понесли самые тяжелые потери за всю свою новейшую историю.[76 — Cм: Carre O. Septembre noir: Refus arabe de la resistance palestinienne. Bruxelles: Complexe, 1980.] Уже не еврейское, а арабское государство било по новому авангарду арабского национализма. Это был дополнительный удар по нему в тот момент, когда кончина в том же месяце Насера лишила национализм его самой харизматической фигуры.
В том же 1970 году кризис национализма способствовал подъему левых движений, вдохновлявшихся палестинским сопротивлением и поддерживавшихся студенчеством. Студенческие демонстрации протеста находили отклик и в рабочей среде. Однако период расцвета оказался недолог. Государства, в том числе и те, что называли себя «прогрессивными», мобилизовали силы против угрозы, которую — с учетом веяний времени после событий 1968 года и «левацких» настроений, охвативших весь западный мир, — они считали очень серьезной. Кроме того, левые оказались неспособными утвердиться за пределами студенческого мирка, городской интеллигенции и немногочисленного «рабочего класса». Их радикальные тезисы пугали средние классы и оставались непонятными населению: левые использовали марксистские концепты и формулировки европейского происхождения, слишком далекие от окружавшей их действительности.
В успехе исламизма парадоксальным образом соединились страхи одних и рухнувшие надежды других. Правившие режимы, воспринимавшие исламизм сквозь призму саудовского консерватизма, поощряли его, поскольку видели в нем силу, способную вытеснить левых с занимаемой ими территории студенческих городков. Некоторые молодые радикалы и левые интеллигенты, размышляя над причинами своих неудач в массах, меняли убеждения, принимая идеологию, которая, на их взгляд, была ближе к истине.
События палестинского «Черного сентября» в Аммане продемонстрировали взрывной характер народного недовольства, направлявшегося левыми силами против авторитарных режимов,