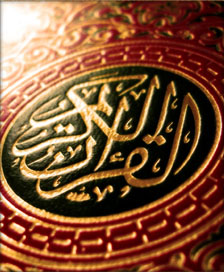вынужденных прибегать к военной силе для его подавления. Напротив, иорданские «Братья-мусульмане» поддержали действия короля Хусейна во время этих событий. Другие арабские руководители усвоили урок. Это побудит преемника Насера, Садата, вставшего у власти в Египте после ареста просоветских насеристов в ходе «исправительной революции» 15 мая 1971 года, постепенно выпустить из тюрем всех узников совести из числа «Братьев-мусульман».[77 — О верности иорданских «Братьев-мусульман» королю Хусейну в сентябре 1970 г. см. ниже ч. 3, гл. 10] Очень быстро студенческие городки стали их главной опорой. Следующий, 1972/73 учебный год был отмечен непрекращающимися волнениями и выступлениями студенчества за возобновление военных действий против Израиля. В результате студенческий вопрос перерос в главный вопрос внутренней политики. На политехническом факультете Каирского университета возникает первая исламистская организация. В сравнении с марксистскими кружками ее влияние оставалось пока невелико, но исламисты уже имели возможность заявить о своих претензиях и целях: они пользовались поддержкой секретных служб, хотя это и держалось в секрете от рядовых членов организации.[78 — О развитии египетского студенческого движения до 1973 г. см.: Abdullah A. Op. cit. О подъеме исламизма в Египте в годы правления президента Садата позволим себе сослаться на нашу книг), в которой приводится фактический материал, лишь вкратце излагаемый здесь (см.: Kepel G. Le Prophete et Pharaon: Aux sources des mouvements islamistes. P.: Seuil, 1993).]
Поощряя исламистское движение, Садат отказался от введенных его предшественником монополии государства на идеологию и контроля за религиозными организациями. Там, где насеровское государство вело за собой массы под лозунгами национализма и подавляло любую диссидентскую мысль, его преемник компенсировал доктринальную слабость своего режима предоставлением свободы самовыражения самостоятельным религиозным лидерам, дабы те нейтрализовывали левых. Эта относительная либерализация религиозной политики происходила в условиях, когда собственно политическая сфера оставалась под жестким контролем. В стране отсутствовала подлинная свобода печати, не было свободного хождения идей нигде, кроме мечетей, чем успешно пользовались исламисты. Происходившее в Египте было характерно и для других мусульманских стран, в частности Туниса, Алжира и Марокко. В этих странах студенты-леваки, тогда еще в массе своей говорившие по-французски, сталкивались с арабоязычными исламистами, которые будут искать свой идеал в книгах, изданных уже в Саудовской Аравии, а не в Латинском квартале.
Глава 2
Победа нефтеислама и ваххабитская экспансия
1973 год
Октябрьская война 1973 года сыграла определяющую роль в ускорении этого процесса. Развязанная Египтом и Сирией с целью смыть позор унижения за поражение 1967 года и упрочить положение авторитарных режимов, на первых порах она протекала удачно для обеих стран. Их армии теснили израильтян на Суэцком канале и Голанских высотах. Войска арабов продвигались вперед, но вскоре Израиль перешел в контрнаступление. Его удалось остановить только после объявления арабскими странами — экспортерами нефти эмбарго на поставки нефти западным союзникам еврейского государства. Акт о перемирии был подписан на трассе Суэц — Каир на 101-м километре от египетской столицы. Это рубеж, до которого дошли израильские солдаты. Арабские государства, непосредственные участники боевых действий, одержали символическую победу: она позволила Садату стать «Героем переправы» (Суэцкого канала), а президенту Сирии Асаду (по-арабски — «лев») — «Октябрьским львом».[79 — Среди множества других эти почетные прозвища бесчисленное количество раз повторялись на транспарантах, ими были исписаны все стены в обоих государствах. Садататакже называли «верующим президентом» («арраис аль-мумин»). Эта формула указывала на то, что он хотел уделить исламу центральное место в легитимизации своего правления, и была созвучна традиционному титулу «повелителя правоверных» (по-арабски — амир аль-муминин). После визита в Иерусалим в ноябре 1977 г. Садата стали называть «Героем мира». Что касается сирийского президента, то его почетное прозвище «Октябрьский лев» обычно привязывалось к другой игре слов, построенной на его имени — Хафез («тот, кто хранит, удерживает, оберегает»): «хранитель арабизма» («хафез альуруба»).] Однако подлинными триумфаторами стали страны — экспортеры «черного золота», в первую очередь Саудовская Аравия. Помимо политического успеха, эмбарго принесло и экономические дивиденды, позволив саудовцам сузить рынок углеводородного сырья, взвинтив цены до астрономических высот.[80 — В случае Саудовской Аравии средняя рыночная цена добываемой в ее недрах нефти возросла с 2,01 доллара за баррель 1 октября 1973 года до 10,24 доллара к 1 января 1975 г., что составило пятикратный за 15 месяцев рост. Во время второго скачка цен, вызванного иранской революцией, в период с декабря 1978 г. по май 1980 г. официальные цены на нефть подскочили еще на 120–150 % в зависимости от ее качества. Цены на «черном» рынке, колебавшиеся в зависимости от положения дел на пошедшем вразнос мировом рынке, взлетели до 40 долларов за баррель в мае 1979 г. Доходы от продажи нефтепродуктов основных мусульманских стран-экспортеров представлены в таблице (в млрд долларов/год) — до (1973) и после (1974) октябрьской войны, после иранской революции (1980) и во время стабилизации рынка (1986):ГодыСаудовская АравияКувейтИндонезияАлжирОАЭ19734,31,70,71,00,9197422,66,51,43,35,51980102,217,912,912,519,5198621,26,25,53,85,9Иран и Ирак, крупные производители нефти, болезненно воспринимали колебания цен на мировом рынке, связанные в случае Ирана с перипетиями исламской революции, а затем — с войной между двумя странами (1980–1988) (см.: Sheet I. OPEC: Twenty-Five Years of Prices and Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1988). Ресурсы, которыми располагала в данный период Саудовская Аравия, были несопоставимы с ресурсами других стран — экспортеров нефти.] Став в одночасье обладателями несметных богатств и доходов, нефтедобывающие государства заняли доминирующее положение в мусульманском мире.
Саудовская Аравия получила неограниченные средства для реализации своих давних амбициозных мечтаний о монополии на понимание ислама в масштабах уммы — всей общины правоверных. На протяжении 60-х годов динамичная поступь национализма сделала относительной политическую значимость религии в жизни государства. Война 1973 года изменила ситуацию. За пределами Аравийского полуострова ваххабитская доктрина имела успех лишь в среде ригористов (или «салафитов»), образовывавших весьма пестрое международное движение: «Братья-мусульмане» соседствовали здесь с группами индийцев и пакистанцев, а также с африканскими и азиатскими мусульманами, побывавшими в Мекке и вернувшимися в свои страны проповедовать «по-арабски» с целью очистить местный ислам от «суеверий». До 1973 года повсеместно сохраняли господствующие позиции национальные (местные) исламские традиции, воплотившиеся в народной религиозности, богословы различных правовых школ суннизма, утвердившихся в крупных регионах мусульманского мира (ханифитская — в тюркском ареале и в Южной Азии, маликитская — в Африке, шафиитская — в Юго-Восточной Азии), а также шиитское духовенство. Они с подозрением относились к пуританизму в саудовском исполнении, ставя ему в вину его сектантский характер. После 1973 года ваххабитские институты достигли нового уровня и перешли к широкомасштабному прозелитизму в суннитском мире (шииты, считающиеся еретиками, остались вне рамок движения). Ваххабиты поставили перед собой цель — сделать ислам главной действующей силой на международной арене и одновременно свести многочисленные интерпретации этой религии к символу веры хозяев Мекки. Их рвение охватывало весь мир, выплескиваясь через традиционные географические границы ислама и достигая Запада, где мусульманское иммигрантское население сделалось излюбленной мишенью саудовского прозелитизма.[81 — По поводу открытия филиалов Лиги исламского мира в Европе позволим себе сослаться на нашу же работу (см.: Kepel G. Les Banlieues de l’islam. Ch. 4).]
Однако распространение веры было не единственной задачей руководителей Эр-Рияда: религиозное подчинение стало ключевым условием для распределения помощи и субсидий, предоставлявшихся мусульманам всего мира, оправданием лидерства Саудитов и средством погашения зависти, вызываемой их богатством в глазах бедных африканских и азиатских единоверцев. Превратившись в управляющих огромной империи благотворительности, саудовские власти стремились придать ореол легитимности процветанию, которое приравнивалось к манне небесной, сошедшей на полуостров, где Пророку Мухаммаду было ниспослано Откровение. Всё это позволяло защитить хрупкую монархию, делая ее для всего окружающего мира страной благотворительности и религиозности. Это также должно было заставить всех забыть, что в конечном счете защита королевства обеспечивалась американской военной мощью и что режим, улемы которого поносили безбожников и Запад, находился в полной зависимости от США. Данная стратегия будет защищать дом Саудитов на протяжении всего периода нефтяного изобилия, пока война в Заливе 1990–1991 годов не опрокинет сложившееся равновесие.
Транснациональная саудовская «система», действуя через свою прозелитическую сеть, выделение субсидий, а также через завоз рабочей силы, которую она притягивала, вмешивалась в отношения между обществом и государством большинства мусульманских стран. Предоставляя финансовые ресурсы отдельным лицам, она позволяла им ослаблять узы верности, связывавшие их с правившими националистическими элитами. Но в 70-е годы доходы от нефти эти элиты рассматривали как шанс для себя, поскольку шальные деньги приносили облегчение (пусть и временное) режимам, которым угрожал демографический взрыв. С середины 70-х молодые выпускники вузов и маститые профессора, ремесленники и крестьяне из Судана, Египта, Палестины, Ливана, Сирии, Иордании, Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии и других стран стали переселяться в нефтедобывающие страны. В1975 году в государствах Залива проживало 1,2 млн рабочих-иммигрантов (из которых 60,5 % составляли арабы), а в 1985 году их было уже 5,15 млн, из которых 30,1 % составляли арабы и 43 % — выходцы с Индийского субконтинента (в большинстве своем мусульмане). В Пакистане в 1983 году денежные переводы от эмигрантов, осевших в странах Залива, оценивались примерно в 3 млрд долларов, при том что вся иностранная помощь, которую получала страна, не превышала 735 млн долларов.[82 — См.: Addleton J.S. The Impact ofthe Gulf War on Migration and Remittances in Asia and the Middle East // International Migration. 1991. № 4. P. 522–524; Undermining the Cenre: The Gulf Migration and Pakistan. Karachi: Oxford University Press, 1992. P. 192.]
Социальное и экономическое влияние этих миграционных потоков было огромно. Прежде всего они снижали уровень безработицы (особенно среди дипломированных специалистов) в критический период, когда на рынок труда приходило первое поколение, родившееся после обретения независимости, — порождение демографического взрыва, оттока из деревень в города и распространения образования. Именно это поколение оказывалось наиболее склонным к проявлению социального недовольства. Далее, они обеспечивали национальную экономику валютой благодаря средствам, перечислявшимся семьям, оставшимся на родине. Мигранты создавали новые потоки циркуляции богатств, материальных благ и услуг, которые выходили из-под контроля государства. Наконец, большинству мигрантов, возвращавшихся на родину с изменившимся социальным статусом, это предоставляло возможности ускоренного социального роста. Вчерашний низкооплачиваемый чиновник теперь владел иномаркой, «строился» в престижном пригороде и заводил хозяйство или жил торговлей, не будучи за это в долгу перед государством, которое не могло бы предоставить ему таких возможностей.
У многих из этих мигрантов, вернувшихся из нефтяного эльдорадо, восхождение по социальной лестнице сопровождалось усилением внешней религиозности. Замужняя дама из хорошего общества будет носить шикарный хиджаб, а ее служанка — обращаться к ней «хаджа», как называют женщин, совершивших паломничество в Мекку, в то время как представительницы буржуазии старшего поколения предпочитали, чтобы слуги называли их на французский манер — «мадам».[83 — Этот социальный факт, подтверждающийся личными наблюдениями автора, является предметом юмористических комментариев в