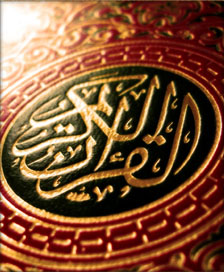проследил жизненный путь Абдаллаха Аззама.] изучал шариат в Дамаске в 1959–1966 годах. Там он в восемнадцатилетнем возрасте примкнул к «Братьям-мусульманам» и в 1960 году стал их представителем в Сирийском университете. Участник арабо-израильской войны 1967 года, он был одним из немногих исламистов, ввязавшихся в вооруженную борьбу против еврейского государства, в то время как палестинские «Братья» предпочитали политической активности благотворительную и социальную деятельность. В 1970 году, в год «черного сентября» ООП в Иордании, Аззам порвал с руководством этой организации,[121 — Некоторые «Братья-мусульмане» из иорданского филиала сотрудничали с ООП в борьбе против Израиля (см. ч 3, гл. 10). Во время событий «Черного сентября» 1970 г. генерал Зия-уль-Хак находился в Иордании, что позволило ему осознать, насколько опасно принимать на своей территории беженцев, представленных одной организацией Этим можно объяснить, почему ISI настояла на том, чтобы в Пешаваре разместились 7 различных афганских партий, лидеры которых порознь контактировали с генералом Ахтаром.] поставив ей в вину, что все силы она направила на борьбу с королем Хусейном, вместо того чтобы обратить их против Израиля. Продолжая учебу в Аль-Азхаре, где в 1973 году он получил степень доктора наук, Аззам становится преподавателем шариата в Иорданском университете, занимаясь молодежным сектором «Братьев-мусульман». Через несколько лет, изгнанный из университета,[122 — Наши источники не позволяют выяснить, чем Абдаллах Аззам навлек на себя гнев иорданских властей, поддерживавших хорошие отношения с «Братьями-мусульманами». Впрочем, хашимитская монархия с подозрением относилась к тем из «Братьев», кто находился в слишком тесных отношениях с саудовской династией (вытеснившей Хашимитов из Мекки в 1928 г.), так как отстаивала менее строгую — по сравнению с ваххабизмом — концепцию ислама.] он перебрался на жительство в саудовский город Джидда, где получил должность преподавателя в местном университете имени короля Абд аль-Азиза. Среди его учеников был юный Усама бен Ладен, которому судьба сулила большое будущее. В то же время Аззам установил контакты с Всемирной исламской лигой, в которой возглавил образовательный сектор. Если верить «житию» Аззама, составленному после его убийства, в 1980 году в Мекке он встретил афганских паломников и, взволнованный их рассказами, «почувствовал, что делом, которое он так долго искал, должно стать дело афганского народа» — эта формулировка тем более примечательна, что, будучи палестинцем, наш герой оказался привержен тому, что считалось главным общеарабским делом. На рубеже 80-х годов последнее утратило свою привлекательность, особенно в глазах исламистского активиста: именно участие в благочестивом джихаде на стороне афганцев позволило ему переосмыслить борьбу палестинцев с точки зрения этой перспективы. По другим сведениям, Аззам был направлен в Исламабад Всемирной исламской лигой для преподавания в частично финансировавшемся ею Международном исламском университете,[123 — О Международном исламском университете в Исламабаде см. с. 98.] открытом в 1980 году и находившемся под контролем «Братьев-мусульман». В 1984 году он поселился в Пешаваре, а в 1985 году принял участие в создании Исламского координационного совета, который объединил десятка два арабских «исламских гуманитарных» организаций,[124 — Исламские гуманитарные организации, на сегодняшний день малоизученные из-за труднодоступности источников, возникли в начале 80-х годов — примерно тогда же, когда начался джихад в Афганистане, явившийся одной из главных причин их появления. В финансовом плане этот феномен был тесно связан с возникновением исламского банковского сектора (см. след. гл), отчисляющего под контролем улемов — членов шариатских отделов (chart’a boards) этих банков — на нужды благотворительности нехалялъныедо-ходы (полученные в результате взимания ссудного процента). На международной арене гуманитарная деятельность являлась проявлением щедрости богатых исламских активистов (в основном уроженцев Аравийского полуострова) в ситуации, когда они не могли позволить западным гуманитарным организациям сохранять монополию на благотворительность — в частности, в Африке, где благотворительная деятельность рассматривалась как проводник религиозного прозелитизма. Западная пресса подозревала, что многие из этих благотворительных фондов служат лишь прикрытием для радикальных движений, членам и руководителям которых они предоставляли должности, средства и придавали ореол респектабельности. О зарождении этого явления и его развитии в Судане см.: Belkon-Jourdan J. L’humanitaire et l’islamisme souda-nais: Les organisations Da ‘wa Islamiyya et Islamic African Relief.’Agency//Politique africaine. 1997. № 66. P. 61.] помогавших афганскому сопротивлению под эгидой саудовской и кувейтской Организаций Красного Полумесяца — главных источников арабской помощи сопротивлению, достигавшей 600 млн долларов в год. Аззам являлся доверенным партнером для саудовского истеблишмента и, в силу своего авторитета, оказывал сильное влияние на не слишком предсказуемых «джихадистов», которые начали прибывать из стран Ближнего Востока в середине 80-х годов. Для приема, обучения и организации этих людей он создал в 1984 году Бюро обслуживания моджахедов.[125 — Брошюра, опубликованная под заголовком «Ильхак би ль-кафиля» («Присоединись к каравану [джихада]»), заканчивалась практическими советами иностранным волонтерам-джихадистам», прибывавшим в Пешавар: как получить паспорт и визу, по какому телефону звонить, где ждать машину, которая доставит их из аэропорта в соответствующее место, и т. д.; см.: Аззам А. Ильхак би ль-кафиля. Бейрут: Дар Ибн Хазм, 1992. Сайт «Azzam Brigades» (на котором можно было заказать эту брошюру) называл ее «источником вдохновения для многих мусульман во всем мире, отправлявшихся сражаться в Афганистан и Боснию».] В декабре того же года появился первый номер возглавлявшегося им журнала «Аль-Джихад». Выходивший на арабском языке, он продавался за доллары и за саудовские реалы, воспевая поддержку афганского дела в арабском мире. Наряду с новостями с фронтов, в журнале публиковались идеологические тексты и передовицы Абдаллаха Аз-зама. Эти статьи будут объединены в сборники для распространения по всему арабоязычному миру, затем часть материалов появится на английском и местных языках и составит основу для интернет-сайта, который будет популяризировать идеи их автора в международном исламистском движении.[126 — См.: http://www.azzam.com. Этот сайт, поддерживаемый из Лондона, был запущен после смерти Абдаллаха Аззама и в основном сообщал информацию о джихадах 90-х годов, в частности Боснии и Чечне. Подробнее об этом будет рассказано в третьей части книги.]
Для Абдаллаха Аззама в первую очередь было важно показать, что джихад в Афганистане является обязанностью (фард айн) каждого мусульманина. Эта тема была даже вынесена в заголовок самой известной его брошюры под названием «Защищать землю мусульман — важнейший долг каждого». В ней автор ссылался на авторитет восьми улемов, вынесших фетвы на сей счет, среди которых — будущий муфтий Саудовской Аравии шейх Бен Баз и другие ваххабиты, а также «Братья-мусульмане», такие как сириец Сайд Хавва или египтянин Салах Абу Исмаил. Все они считали, что каждый мусульманин обязан принять в джихаде моральное (би н-нафс) и финансовое (би ль-маль) участие.[127 — См.: Аззам А. Джихад шааб муслим [Джихад мусульманского народа]. Бейрут: Дар Ибн Хазм, 1992. С. 24.] «Если враг вступил на земли мусульман, джихад, по согласному мнению докторов права, комментаторов [священных текстов] и хранителей традиции [тех, кто собирал высказывания и сведения о деяниях Пророка], становится личной обязанностью».[128 — Он же. Ильхак биль-кафиля. С. 44.] В этом Абдаллах Аззам выступил против тех, кто считал джихад лишь «коллективной обязанностью» мусульман («фард кифайя»), перекладывая ответственность на политическое руководство, отговаривая мусульман от отправки в Афганистан и заявляя, что «сегодня лучше учиться, чем делать джихад».[129 — Он же. Башаир ан-наср [Знамения победы]. Бейрут: Дар Ибн Хазм, 1992. С. 28. Текст клятвы, произнесенной в 1988 г. в Пешаваре во время молитвы на празднике жертвоприношения Ид аль-Адха (Ид аль-Кебир).]
Итак, все правоверные были обязаны морально или финансово участвовать в афганском джихаде, чтобы не впасть в великий грех,[130 — А. Аззам пояснял, что не участвовать в джихаде с того момента, как он стал «личной обязанностью», — такой же грех, как не молиться и не поститься в месяц Рамадан. Таково общее мнение богословов, за исключением некоторых ханбалитов, считающих, что молитва имеет приоритет (см.: Аззам А. Джихад шааб… С. 25).] и каждый мусульманин, чувствовавший себя способным сделать это, имел право участвовать в джихаде с оружием в руках, не испрашивая на то разрешения ни у кого, «даже у повелителя правоверных, если таковой имеется».[131 — Там же.] Тем более, afortiori, «безбожные» правители некоторых мусульманских стран не имели никакого права препятствовать этому. И Афганистан — это лишь первый пример исламской территории, узурпированной неверными, отвоевать которую с помощью джихада было священным долгом: «Эта обязанность не исчезнет вместе с победой в Афганистане, джихад будет оставаться личным долгом каждого мусульманина, пока мы не вернем все земли, ранее бывшие мусульманскими, чтобы ислам воцарился там вновь: перед нами — Палестина, Бухара, Ливан, Чад, Эритрея, Сомали, Филиппины, Бирма, Южный Йемен, Ташкент, Андалусия…».[132 — Он же. Башаир… С. 26.] «Наше сегодняшнее присутствие в Афганистане, которое есть не что иное, как исполнение долга джихада и проявление нашей любви к сражениям, не означает, что мы забыли о Палестине. Палестина — это наше бьющееся сердце, она важнее Афганистана в нашей душе, в нашем сердце, в наших чувствах, нашей вере».[133 — Он же. Джихад шааб… С. 59.]
Эти слова Абдаллаха Аззама вписывались в традицию исламского учения о джихаде в том виде, в каком она была разработана в Средневековье, в частности, авторами ханбалитской школы, особенно Ибн Таймийей, которого Аззам цитировал очень часто. Высказывания Аззама были новы не по своему содержанию, но по контексту, в котором звучали. Многие современные исламистские авторы и до него призывали к джихаду, но то была всего лишь риторика, поскольку не существовало организованной массы правоверных, чтобы претворить этот лозунг в жизнь. Джихад за освобождение Иерусалима, например, служил лишь религиозным прикрытием состояния войны с Израилем. Арабские государства региона и ООП в еще меньшей степени использовали джихад в зависимости от национальных или политических императивов времени, не сопровождавшихся, вплоть до начала интифады в декабре 1987 года, каким-либо народным восстанием. Напротив, деятельность Аззама разворачивалась в совершенно другом контексте, поскольку за тем, что он проповедовал, непременно следовало практическое воплощение. Он непосредственно обращался к участникам добровольческого движения, прибывавшим со всех концов исламского мира, в основном из арабских стран (их численность, по разным оценкам, составляла от 8 до 25 тысяч человек).[134 — Первая оценка приводится в: Akram A. Op. cit. P. 268. Относительно второй оценки см.: Raufer X. VSD. 3.09.1998. Р. 20. Автор ссылается на данные британских разведслужб. По утверждению Мильтона Бирдена, бывшего резидента ЦРУ в Афганистане, на самой афганской территории никогда не находилось более 2 тыс. арабов одновременно, а их участие в боях было минимальным.] Все они действовали по собственной воле, получали оружие и проходили военную подготовку в тренировочных лагерях. Аззам пользовался большой популярностью: был постоянно окружен людьми, его часто видели в компании шейха Омара Абдель Рахмана, который с 1985 года часто наведывался