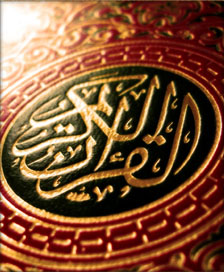в Пешавар. Шейх произносил зажигательные речи перед арабскими добровольцами, проповедовал джихад с поощрения ЦРУ и саудовских дипломатов.[135 — О поездках шейха Омара Абдель Рахмана в Пешавар см.: WeaverM.А. A Portrait of Egypt. N.Y.: Farrar, Strauss & Giroux, 1999. P. 169.]
В действительности арабы, судя по всему, мало участвовали в боях против Красной Армии.[136 — Усама бен Ладен, молодой саудовский миллиардер-исламист, ставший знаменитым в следующее десятилетие, по словам его почитателей, был редким исключением из этого правила. Участвуя во главе своего отряда в тяжелых боях с советскими войсками, он проявлял личную храбрость и снискал этим уважение, которое не могло дать ему одно только богатство.] Их основная военная деятельность развернулась после ухода советских войск в феврале 1989 года, и ее оценка была неоднозначной. В марте во время осады Джалалабада арабский контингент проявил чудеса воинской доблести, порубив на куски его защитников — «безбожников», пленных афганцев, что вызвало потрясение в рядах афганских моджахедов.[137 — См.: Akram A. Op. cit. P. 274–277. Автор не скрывает антипатии к арабам.] Для джихадистов-интернационалистов поездка в Пешавар была возможностью почувствовать свою причастность к происходившим событиям, обжиться в рядах исламистов, а затем и получить закалку в более экстремистской среде, чем у своих саудовских крестников. В середине 80-х годов организовывались «джихад-туры» для молодых богатых саудовцев, которые проводили несколько недель в летнем лагере с вылазкой на сопредельную афганскую территорию и фотографированием на поле боя. Им приходилось встречаться там с представителями европейских гуманитарных организаций, к которым они питали сильную антипатию. В Афганистан на несколько недель джихада посылались и молодые исламистские активисты из стран Востока, Магриба, и даже «бёры» французских предместий.[138 — Уже в 1986 г. мы встречали во Франции молодых реисламизированньгх «бёров», или обращенных в ислам французов, которые «побывали на джихаде» (подобно предыдущему поколению арабских левых и их европейских попутчиков, посещавших палестинские лагеря в Ливане). На митинге под Парижем один из них рассказывал собравшимся, как благоухали на поле боя тела мусульманских мучеников, тогда как от трупов только что убитых русских исходило зловоние падали.] Целью этих командировок являлось приобщение молодежи к священному делу, воспитание у нее воинского духа. Молодые люди возвращались домой в ореоле приобретенного опыта ведения джихада, готовые к борьбе против собственного безбожного руководства.[139 — Во время процесса по делу французской исламистской группы, отдельные члены которой были замешаны в террористической акции, совершенной в 1994 г. в Марракеше, некоторые из обвиняемых рассказывали о своей поездке в Пакистан для участия в джихаде. Там они проходили только идеологическую обработку и обучались обращению с оружием, но лично в боях не участвовали. Вернувшись во Францию, некоторые из них тренировались в стрельбе и беге по пересеченной местности. См.: Erhel С, Байте R de la. Le proces d’un reseau islamiste. P.: Albm Michel, 1997.] Отношение властей к ним нельзя было назвать восторженным. Некоторые из этих стажеров уже подвергались у себя на родине тюремному заключению (как многие египетские исламисты, осужденные после убийства Садата в октябре 1981 года и освобожденные в 1984 году после отбытия наказания). Вот эти обстрелянные в боях бойцы и начали скапливаться в окрестностях близ Пешавара. Их пребывание там облегчалось симпатией, испытываемой к ним некоторыми арабскими благодетелями, в то время как государства, в которых они были осуждены, не без удовлетворения взирали на их убытие подальше, в горы Афганистана. Будучи образованными людьми, иногда владевшими английским языком и умевшими пользоваться компьютером, они привлекали внимание пакистанских и американских разведывательных служб. Молодой Усама бен Ладен, отпрыск семейства строительных магнатов, известных в Саудовской Аравии и странах Залива, стал символической фигурой «джихадиста» из саудовского сераля. Его религиозное усердие не доставляло хлопот ни монархии, с которой он поддерживал деловые отношения, ни американским спецслужбам, для которых этот молодой человек из хорошей семьи был союзником в борьбе против коммунизма.
После вывода советских войск из Афганистана в феврале 1989 года Соединенные Штаты сократили объемы помощи сопротивлению, оказавшемуся неспособным свергнуть кабульский режим, во главе которого с ноября 1987 года встал Мохаммед Наджибулла, бывший шеф афганского КГБ — ХАДа. Крах коммунизма, империя которого начала разваливаться в том же году, на смену которой стали приходить народные демократии в Восточной Европе, привел к исчезновению с политической карты мира Советского Союза в декабре 1991 года и, соответственно, к снятию афганского вопроса с повестки дня американской стратегии. Для Саудовской Аравии соперничество Ирана в мировом исламском пространстве не представляло уже той опасности, как в начале 80-х годов: в июле 1988 года аятолла Хомейни был вынужден решиться на прекращение войны с Ираком. Страна находилась в разрухе, иранские паломники не могли совершать хадж к святым местам из-за навязанной их стране квоты. В Пешаваре уже не оставалось сколько-нибудь стоящих, с точки зрения Вашингтона, «борцов за свободу». Члены американского конгресса стали выказывать озабоченность размерами героинового наркобизнеса и причастностью к нему руководителей моджахедов. Хекматьяр и Сайяф были признаны «экстремистами» наряду с Наджибуллой и лишились поставок американского оружия. Арабские государства начали демонстрировать свою озабоченность захватом Кабула неконтролируемыми исламистскими группами, присоединившимися к активистам, которых высылка в страну, объятую джихадом, только усилила. Вот в такой обстановке обострившихся трудностей для рядов сопротивления, ослабленного внутренними распрями, 24 ноября произошло покушение (не раскрытое по сию пору), стоившее жизни Абдаллаху Аззаму. Глашатай джихада покинул этот мир в тот момент, когда те, кто его поддерживал в мусульманском мире, дали понять, что с уходом русских священной битве должен быть положен конец.
Тем не менее Саудовская Аравия и пакистанские разведслужбы увеличили помощь Хекматьяру. Правительству Беназир Бхутто, пришедшей к власти в августе 1988 года после смерти генерала Зия-уль-Хака и враждебно настроенной к этому афганскому союзнику своего кровного врага «Джамаат-и ислами», основанной Маудуди, так и не удалось этому воспротивиться. Однако разлад в стане моджахедов, прочное положение, занимаемое основным соперником Хекматьяра полевым командиром Масудом на северо-востоке страны, сопротивление режима Наджибуллы не позволили руководителю «Хезб» захватить Кабул и основать долгожданное исламское государство по саудовско-пакистанскому рецепту. Афганская территория была поделена на многочисленные зоны, подконтрольными полевым командирам различных партийных группировок. Все они были привязаны к своей этнической базе, к «малой родине». Большая часть населения этих зон существовала за счет выращивания опийного мака, контрабанды оружия и наркотиков Джихад постепенно уступал место фитне, распрям в стане верующих.
Второго августа в обстановке всеобщего раздора войска Саддама Хусейна вступили в Кувейт. Тем самым было положено начало второй войне в Заливе, чреватой для Саудовской Аравии гораздо большими угрозами ее верховенству в мировом исламе, нежели иранский вызов. Хекматьяр и его войско, как и большинство арабских «джихадистов», выступили против Эр-Рияда, своего самого именитого крестника. В конечном итоге для «современных» исламистов в Афганистане это было равнозначно похоронному звону. Таким образом, с одной стороны, талибам была открыта дорога к власти, а с другой — выпущены на мировые просторы арабские «джихадисты».
Глава 3
«Исламский бизнес» и саудовская гегемония
Сделавшись официальным спонсором джихада в Афганистане, Саудовская Аравия преследовала целью нейтрализовать самые радикальные группировки исламистского движения: студентов, интеллигенцию и беднейшие слои городской молодежи, грезившие революцией в той или иной форме. Чтобы утвердить свое главенствующее положение в мировом исламе, саудовской монархии необходимо было сохранить в неприкосновенности особые связи с буржуазией и набожными средними классами Саудовская система, представлявшая собой династический племенной режим, при котором кровное родство обеспечивало с 1973 года доступ к сказочным богатствам от продажи нефти, имела уязвимое место. Болевая точка монархии находилась под огнем критики «неудачно родившихся» социальных групп неблагородного происхождения. В исламистских кругах, поддерживавших натянутые отношения с Эр-Риядом, саудовские принцы изображались как обленившиеся, некомпетентные правители, погрязшие в роскоши, разврате и других грехах (пьянстве, порнографии и т. д.), компрометировавшие религию и превращавшие ислам в ханжество. В этих обвинениях слышалась классическая критика буржуазии в адрес дурного правителя-сумасброда. Такого рода нарекания свойственны практически всем цивилизациям, но в данном случае моральной отсылкой, к которой апеллировала эта критика, являлся свод священных императивов Корана.
Исламская финансовая и банковская система выстроила привилегированные отношения с родовой аристократией Аравийского полуострова, обладательницей «дарованной Всевышним» нефтяной ренты, и с набожными средними слоями мусульманского мира, что позволило повязать их узами экономического партнерства, крепимого «вознаграждением за набожность». Это обеспечивало лидерство Саудовской Аравии в Общине правоверных, позволяя Саудитам влиять на политические взгляды набожной буржуазии в каждой мусульманской стране, привязывая этот состоятельный класс к ваххабитской монархии. Афишируя себя в благотворительном и социальном плане через перераспределение закята[140 — О подсчете закята в современную эпоху см.: Gausse G., SaciD. Lacomptabi-hte en pays d’islam // Traimond P. Finance et developpement en pays d’islam. Vannes: Edicef, 1995. P. 62–68.] (предусмотренного шариатом жертвования) и финансирование мелких предпринимателей, фермеров и коммерсантов, не имевших доступа к обычной банковской системе, исламские финансовые институты, помимо всего прочего, претендовали на то, чтобы выступать в качестве фактора сплочения и социальной интеграции. Тем самым они участвовали в распространении выгодного им идеализированного представления об обществе, в котором набожная буржуазия обладала моральной легитимностью. Понятно, что существование такого типа финансовой системы немыслимо без параллельного функционирования исламских гуманитарных благотворительных организаций. Будучи основными получателями — в рамках благотворительности — «нехаляльных» доходов исламских банков,[141 — Любой исламский банк, оперирующий на мировом рынке финансовых услуг, должен располагать валютой, оборот которой регулируется уровнем процентной ставки. Таким образом, он будет получать доходы в виде «лихвы» и обязан вывести их из баланса — за этим следят улемы, входящие в наблюдательные банковские советы. Создание исламских неправительственных организаций (НПО) является одним из способов найти применение этим суммам, которые могут быть очень значительными.] они позволяют последним вести свою деятельность «в соответствии с законами шариата» и тем самым иметь оправдание в глазах благочестивых вкладчиков.
Такая финансовая система имеет две различные сферы, хотя и проникнутые единым духом. Первая сфера представляет собой механизм частичного распределения нефтяной ренты между государствами — членами Организации Исламской конференции (ОИК) через Исламский банк развития (ИБР), созданный в 1975 году. В предыдущей главе мы уже видели, как ОИК крепил исламское единство (и зависимость) между своими членами: беднейшими государствами Африки и Азии и богатейшими экспортерами углеводородного сырья.[142 — Владея основной частью акционерного капитала в 2 млрд долларов (вложенного в основном Саудовской Аравией, Кувейтом и Ливией), ИБР пытался способствовать созданию исламского финансового и экономического пространства в условиях, когда на долю взаимообмена между мусульманскими государствами приходилось всего 10 % их внешнеторгового оборота, остальная же часть относилась в основном к западным странам. ИБР финансировал проекты в сфере инфраструктуры, но ему также пришлось — вопреки первоначальным целям