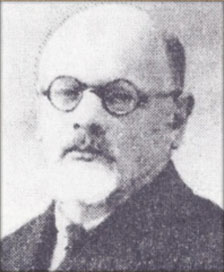русскую революцию, являющуюся как раз в этом отношении особенно показательной, т. е. зародившейся задолго до ее внешнего обнаружения. Но прежде мы подчеркнем еще один, быть может, религиозно наиболее положительный момент во всякой революции. Являясь наиболее плодоносящей в отношении зла и обнаруживая его в явных и, так сказать, созревших формах, она тем самым служит и добру. Именно в ней плоды зла, так сказать, спадают с породившего их организма, а главное — ясно обнаруживают свою природу. Поскольку революции являются именно опасными болезнями, а не окончательною смертью, поскольку они до сих пор находили свое исцеление, они именно и имеют этот двойственный характер: с одной стороны, наиболее полного и яркого обнаружения зла, с другой стороны, наиболее радикального от него освобождения. Однако эта двойственность совершается, так сказать, не в одном месте. Зло и добро имеют в революциях свои разные фокусы и центры притяжения. Именно революции способствуют разделению добра и зла, выявляя и то и другое в наиболее яркой форме. И, как процессы очищения добра от выявившегося зла, они и с религиозной точки <зрения> имеют некую печать благодетельности и в сущности наиболее реализуют религиозный смысл истории, состоящий именно в разделении добра и зла в их созревших формах. Христианству нечего бояться смерти, как индивидуальной, так и общечеловеческой, так как в смерти погибает лишь то, чему и надлежит погибать, т. е. злые начала жизни. Но верная Христу часть человечества в революциях, как в грозе, лишь очищается и просветляется. И как пришествие Антихриста в силе знаменует собою и близкое торжество Христа, так и все взрывы злых сил в процессе революции являются провозвестниками новых религиозных подъемов и, быть может, даже преображений.
Пишущему эти строки задолго до русской революции пришлось вести беседу с одним из своих друзей, ярым ненавистником старого строя, о возможности революции в России. Мой собеседник настаивал, что революция в России возможна и необходима и что, конечно, по своему течению она не будет представлять ничего особенно устрашающего. «Вот даже турки отлично все это проделали, так просто и легко, — говорил мой собеседник, — отчего же и нам не скинуть с себя всю эту шайку негодяев, называемую русским правительством». Я утверждал обратное, а именно весьма малую вероятность революции в России. В случае же если она произойдет, то, предостерегал я моего друга-оптимиста, она разыграется в масштабах и формах, напоминающих французскую революцию и даже, наверное, превзойдет ее по силе революционного террора. Как на основание для своего последнего предположения я указывал своему собеседнику на слишком сложный и взаимнопротиворечивый состав русского народа в смысле его идеологии и жизненных инстинктов и, главное, на типическую размашистость его воли. Мой друг оказался правым в первом, а я во втором. Вопреки моим предположениям, русская революция все же совершилась. Но она совершается в формах и размерах, даже и теперь во многих отношениях превосходящих по своему размаху великую французскую революцию.
Русская душа, как и всякая, трехсоставна и имеет лишь своеобразное сочетание своих трех основных частей. В составе же всякой души есть начало святое, специфически человеческое и звериное. Быть может, наибольшее своеобразие русской души заключается, на наш взгляд, в том, что среднее, специфически человеческое начало является в ней несоразмерно слабым по сравнению с национальной психологией других народов. В русском человеке как типе наиболее сильными являются начала святое и звериное. Этот своеобразный душевный симбиоз может показаться странным. Однако, на наш взгляд, именно такое сочетание является наиболее естественным. Ангельская природа, поскольку она мыслится прошедшей мимо познания добра и зла и сохранившей в себе первобытную невинность, во многом гораздо ближе и родственнее природе зверя, чем человека. Правда, святость есть нечто иное, чем ангелоподобность. Но и она ей все же близка и возникает в преодолении специфически человеческой духовной культурности. Конечно, это сближение имеет силу, если в звериной природе иметь в виду, кроме начал ярости и лютости, также и начала мягкости, кротости и добродушия. Русская душа в этом отношении включает в себя все богатства этой природы. Лютость и добродушие, тихость и беспокойство, — словом, все то, что обособленно и раздробленно сквозит в звериных обличьях волка и зайца, лисицы и медведя, заключено в русской душе в сложных и подчас неожиданных сочетаниях. Этот своеобразный зверинец русской души в достаточной мере ярко и художественно правдиво представлен нашими бытописателями; Гоголем, Островским, Лесковым, чтобы его нужно было подтверждать и иллюстрировать теми или иными примерами. Разве Собакевич не медведь, Коробочка не овца и Петух не добродушный боров, как-то странно очеловечившиеся и сохранившие в человеческом обличье добрую половину своей как телесной, так и духовной природы. И где, кроме как в России, возможны и так символичны такие наименования людей, как Кит Китыч? Столь же ярко выражена и высшая часть русской души. История России и литература дают нам такие же многообразные примеры святости как в специфической области церковной жизни, так и в формах духовной высоты и чистоты в общих жизненных отношениях. Но как бледно выражен в русской истории и литературе «человек» как таковой. Три-четыре типа, и даже не типа, а все же до известной степени искусственно созданных фигуры, вроде Чацкого, Рудина. И это не потому, что мы запоздали в культуре и что тип гуманиста — а в нем-то и выражено начало человечности по преимуществу — есть уже тип культурного человека. Нет, мы скажем обратное. Не гуманизм у нас запоздал от запоздания культуры, а культуры у нас не было и нет от слабости гуманистического начала. Гуманизм — это независимая от религии наука, этика, искусство, общественность и техника. Это есть то, чем человек отличается от зверя. Но именно русский человек, сочетавший в себе зверя и святого по преимуществу, никогда не преуспевал в этом среднем и был гуманистически некультурен на всех ступенях своего развития. Нельзя не коснуться еще и другого своеобразия русской души. Революция по первоначальному своему стимулу есть порождение некоторого этического пафоса. Но нельзя не признать, что этого пафоса в русской душе в общем и целом никогда не было. Вообще этический уровень русской души невысок. Недаром поэт-славянофил, от которого скорее всего можно было бы ждать идеализации русского народа, произнес о России весьма суровые осуждения, суммирующиеся признанием, что она «и всякой мерзости полна»{9}. И как своеобразно в русской душе святое сочеталось со звериным, так же своеобразно оно сочеталось и с греховным, с некоторым неискоренимым злом душевно-материальной оболочки. Это своеобразное сочетание святого с греховным уясняется через понимание того, что между добром и злом могут существовать не только внешние механические связи, когда, например, злое начало пользуется доброй внешностью как своей маской, но и своеобразные органические сращения. Иногда даже особым видам добра в душевной организации соответствуют определенные виды зла. Как благоуханность некоторых цветов связана с ядовитостью, красота трав — с непригодностью служить пищей животным и, напротив, полезность с невзрачностью, так и в мире духовном — в человеческой душе — бывает особая благоуханность порочных душ, пошлая приниженность добродетели и тому подобные странные сочетания. И это не простые случайные ассоциации. Именно на определенных видах зла и душевного распадения наиболее успешно развиваются и пышно расцветают, как бы в унавоженной почве, превыспренние и редкие душевные ценности. Если обратиться к типичному в этой области, то таковым нельзя не признать особую связь религиозных талантов с антигуманистическими наклонностями. Эта связь характерна именно для средних уровней. И она несомненно органична именно в том смысле, что гуманистичность отвращает человеческий интерес от неба. Она слишком обнадеживает землей и даже в самых отчаянных положениях верой в человека поддерживает устремление все же лишь к земле и к осуществимым лишь через человека идеалам. Напротив, на почве безверия в человека, известной мизантропии, а в результате даже холодности и безнравственности в отношении человека, а следовательно и эгоизма, зачастую прочно теплится вера и любовь к горнему, правда, чаще всего обращенная к нему через осязаемые и чувственно конкретные формы культа. Так, русская церковность типично срасталась с кулачеством и вообще всем гуманистически диким бытом. Это срастание греха с благочестием хорошо изобразил Блок в следующих многозначительных строфах:
Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в Божий храм.
Три раза преклониться долу,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.
Кладя в тарелку грошик медный,
И зацелованный оклад.
А, воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.
И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне… —
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне{10}.
Почему и такая Россия оказалась для поэта дороже всех краев? Вероятно, потому, что он интуитивно понял, что с этой пьяной икотой как-то неразрывно сочетались — пусть не в одном и том же человеке, а быть может, в других, ему близких, — какие-то нигде не встречаемые духовные ценности и красоты. Полярную противоположность такого рода сочетаниям составляют люди, иногда глубокие гуманисты, искренно отзывчивые и самоотверженные, но все же в этих своих качествах до противности пошлые в восприятиях и оценках жизни, глухие к ее духовным красотам, не замечающие никаких высот и глубин, живущие вечно на плоскости благ «культуры» в смысле науки, техники и общественного благоустройства. Для средних уровней это процветание определенных ценностей на почве вполне определенных же недостатков и обратно прямо-таки даже характерно. Но как будто того же нельзя сказать про высокие образцы добра и зла. И прежде всего святые обнаруживают на себе единство и букет религиозных и моральных достижений. По крайней мере, в сфере индивидуальных личных отношений типичная святость вне всякой оподозренности. Но общественно и святые могут принадлежать к «партии», гуманистически неправой. И здесь та же органическая связь добра и зла выступает лишь в иной области отношений, — отношений сверхличных.
Этот своеобразный строй русской души, который мы попытались вкратце охарактеризовать, объясняет нам, почему в России так долго не было революции. Революция есть именно порождение срединного гуманистического слоя человеческой природы. Зверь не способен созидать новые формы общественности. Святой ими мало интересуется, и по другим лишь основаниям, но тоже мало для этого пригоден. Лучшую общественность стремится созидать и способен созидать именно человек как таковой, любящий эмпирическую благоустроенную жизнь, расположившийся на земле не как на временном бивуаке, подобно святому, а в намерении культивировать эти земные условия и себя самого в них на неопределенно долгие, едва ли не бесконечные времена.
До XIX