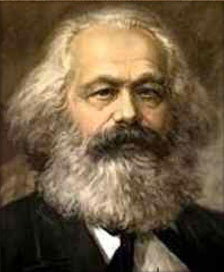признательное отношение к «Человеку».] Святому, идеалу, высшему существу, или соответствующее человеческое, святое, идеальное, существенное отношение. То, чем помимо этого выражается наличное бытие Святого, как, например, государство, тюрьмы, пытка, полиция, житье-бытье и т.д., Санчо также может рассматривать как «другой пример» «любви». Эта новая номенклатура дает ему возможность писать новые главы о том, чтo он уже отверг под маркой святого и почитания. Это – старая история о козах пастушки Торральбы, только в святом ее образе. И как когда-то он, с помощью этой истории, водил за нос своего господина, так теперь водит за нос самого себя и публику на протяжении всей книги, не умея, однако, прервать свою историю так же остроумно, как он это делал в те прошлые времена, когда он еще был простым оруженосцем. Вообще с момента своей канонизации Санчо потерял все свое природное остроумие.
Первое затруднение возникает, по-видимому, из-за того, что это Святое очень различно по своему содержанию, так что и при критике какой-нибудь определенной святыни следовало бы отбросить святость и критиковать самое это определенное содержание. Святой Санчо обходит этот подводный камень тем путем, что все определенное он приводит лишь как один из «примеров» Святого, – точно так же, как в гегелевской «Логике» безразлично, приводится ли в пояснение «для-себя-бытия» атом или личность, а в качестве примера притяжения – солнечная система, магнетизм или половая любовь. Стало быть, если «Книга» кишит примерами, то это отнюдь не является случайным, а коренится в глубочайшей сущности применяемого в ней метода развития мыслей. Это – «единственная» возможность для святого Санчо создать видимость какого-то содержания, – прообраз этого имеется уже у Сервантеса, у которого Санчо тоже все время говорит примерами. Поэтому-то Санчо и может сказать: «Другим примером Святого» (незаинтересованности) «служит труд». Он мог бы продолжить: другой пример – государство, еще другой – семья, еще другой – земельная рента, еще другой – св. Иаков (Saint-Jacques, le bonhomme[274]), еще другой – святая Урсула с ее одиннадцатью тысячами дев{216}. Все эти вещи имеют, правда, в его представлении ту общую черту, что они воплощают в себе «Святое». Но они, вместе с тем, представляют собой совершенно различные вещи, и именно это составляет их определенность. [Поскольку о них говорится в их определенности, речь идет о них лишь постольку, поскольку они не суть «Святое».
Труд не есть земельная рента, а земельная рента не есть государство, значит – требуется определить, что такое государство, земельная рента, труд помимо их воображаемой святости, и святой Макс прибегает к следующему приему: он делает вид, будто говорит о государстве, труде и т.д., но затем объявляет «государство вообще» действительностью некоей идеи, – будет ли это любовь, бытие-друг-для-друга, существующее, власть над отдельными лицами и, с помощью тире, – «Святое»; но ведь он мог сказать это с самого начала. Или о труде говорится, что он считается жизненной задачей, призванием, назначением – «Святым».] Т.е. государство и труд лишь подводятся под заранее уже изготовленный – тем же способом – особый вид Святого, и это особое Святое растворяется затем снова во всеобщем «Святом»; все это можно, конечно, сделать, не сказав ничего о труде и государстве. Одну и ту же жвачку можно теперь пережевывать вновь и вновь при каждом удобном случае, причем все, что по видимости является предметом критики, служит нашему Санчо только предлогом для того, чтобы абстрактные идеи и превращенные в субъекты предикаты (представляющие собой не что иное, как рассортированное Святое, которое всегда держится про запас в достаточном количестве) объявить тем, чем они были признаны уже с самого начала, т.е. Святым. Он в самом деле свел все вещи к их исчерпывающему, классическому выражению, сказав о них, что они служат «другим примером Святого». Определения, попавшие к нему понаслышке и будто бы относящиеся к содержанию, совершенно излишни, и при их ближайшем рассмотрении действительно оказывается, что они не дают никакого определения, не привносят никакого содержания и сводятся к невежественным банальностям. Эту дешевую «виртуозность мышления», которая справляется с каким угодно предметом еще до того, как узнает его, каждый может, конечно, усвоить и даже не за десять минут, как мы сказали выше, а всего за пять. Святой Санчо грозит нам в «Комментарии» «трактатами» о Фейербахе, о социализме, о буржуазном обществе, и одно лишь Святое знает, о чем еще. Мы можем уже заранее свести эти трактаты к их простейшему выражению следующим образом:
Первый трактат: Другим примером Святого служит Фейербах.
Второй трактат: Другим примером Святого служит социализм.
Третий трактат: Другим примером Святого служит буржуазное общество.
Четвертый трактат: Другим примером Святого служит «трактат», весь проникнутый штирнеровским духом.
И т.д. in infinitum[275].
Второй подводный камень, о который святой Санчо непременно должен был разбиться при некотором размышлении, это – его собственное утверждение, что каждый индивид является совершенно отличным от всех остальных, единственным. Так как каждый индивид – совершенно иной, так как он и есть, таким образом, иное, то вещь, которая для одного индивида чужда, свята, отнюдь не должна быть – и даже вовсе не может быть – такой и для другого. И общее имя, вроде государства, религии, нравственности и т.д., не должно вводить нас в заблуждение, ибо эти имена суть лишь абстракции от действительного отношения отдельных индивидов, и все эти предметы, вследствие совершенно различного отношения к ним со стороны единственных индивидов, становятся для каждого из этих последних единственными предметами, т.е. совершенно различными предметами, имеющими только общее имя. Следовательно, святой Санчо мог бы в лучшем случае только сказать: государство, религия и т.д. для Меня, святого Санчо, есть Чуждое, Святое. Вместо этого они должны превратиться у него в абсолютно Святое, в Святое для всех индивидов, – как же мог бы он иначе сфабриковать свое конструированное Я, своего согласного с собой эгоиста и т.д., как мог бы вообще написать всю свою «Книгу»? Как мало Санчо вообще заботится о том, чтобы каждого «Единственного» сделать мерилом его собственной «единственности», до какой степени он прилагает свою собственную «единственность» в качестве масштаба, моральной нормы, ко всем остальным индивидам, втискивая их, как и подобает настоящему моралисту, в свое прокрустово ложе, – это видно, между прочим, уже из его суждения о всеми позабытом блаженной памяти Клопштоке. Клопштоку он преподносит нравственное наставление – «относиться к религии совершенно особенным образом», и тогда Клопшток пришел бы не к особенной, собственной религии, как гласил бы правильный вывод (вывод, который «Штирнер» сам делает бессчетное число раз, например говоря о деньгах), а пришел бы к «разложению и поглощению религии» (стр. 85), т.е. ко всеобщему, а не к собственному, единственному результату. Словно Клопшток не пришел действительно к «разложению и поглощению религии», и притом к совершенно особенному, единственному разложению, какое и мог «подать» только вот этот единственный Клопшток, – к разложению, единственность которого «Штирнер» мог бы усмотреть хотя бы из множества неудачных подражаний. Отношение Клопштока к религии было, оказывается, не «собственным», хотя оно было вполне своеобразным, было именно таким, которое и делало Клопштока Клопштоком. Отношение Клопштока к религии было бы «собственным», видите ли, только в том случае, если бы он относился к религии не как Клопшток, а как новейший немецкий философ.
«Эгоист в обыкновенном смысле», который не столь покорен, как Шелига, и уже выше выдвигал всякого рода возражения, делает здесь нашему святому следующий упрек: здесь в действительном мире я забочусь, – и я это отлично знаю, rien pour la gloire[276], – только о моей выгоде и больше ни о чем. Кроме того, мне доставляет удовольствие думать еще и о выгоде на небе, о своем бессмертии. Так неужели я должен пожертвовать этим эгоистическим представлением ради одного лишь сознания согласного с собой эгоизма, – сознания, которое не дает мне ни гроша? Философы говорят мне: это нечеловечно. Какое мне до этого дело? Разве я не человек? Разве не человечно все, чтo я делаю, уже по одному тому, что я это делаю, да и не все ли мне равно, «под какую рубрику подводят» мои действия «другие»? Ты, Санчо, ведь тоже философ, хотя и обанкротившийся, и уже из-за своей философии Ты не можешь рассчитывать на денежный кредит, а из-за своего банкротства – на кредит идейный, – Ты говоришь мне, что я не отношусь к религии по-особенному. Ты, стало быть, говоришь мне то же самое, что и другие философы, но только у Тебя это, по обыкновению, теряет всякий смысл, так как Ты называешь «особенным», «собственным» то, что они называют «человечным». В ином случае разве Ты мог бы говорить о какой-нибудь другой особенности, кроме Твоей собственной, разве Ты мог бы снова превратить собственное отношение во всеобщее? Также и я, если хочешь, отношусь к религии по-своему критически. Во-первых, я нисколько не постесняюсь тотчас же пожертвовать ею, как только она вздумает быть помехой в моей коммерции; далее, мне в моих делах полезно пользоваться репутацией религиозного человека (как моему пролетарию полезно, если он хоть на небе будет вкушать пирог, который Я съедаю здесь); и, наконец, я обращаю небо в мою собственность. Оно представляет собой une propriete ajoutee a la propriete[277], хотя уже Монтескьё, человек совсем другого склада, чем Ты, пытался убедить меня, что небо, это – une terreur ajoutee a la terreur[278]. Как Я отношусь к небу, так к нему не относится никто другой, и в силу этого единственного отношения, в которое я к нему вступил, оно является единственным предметом, единственным небом. Ты критикуешь, стало быть, в лучшем случае Свое представление о моем небе, а не мое небо. Не говорю уж о бессмертии! Тут Ты становишься прямо смешон. Я отрекаюсь от своего эгоизма, – утверждаешь Ты в угоду философам, – потому что увековечиваю его и объявляю ничтожными и лишенными всякого значения законы природы и мышления, как только они хотят навязать моему существованию определение, произведенное не мной самим и крайне для меня неприятное, а именно – смерть. Ты называешь бессмертие «скверной неподвижностью» – точно я не мог бы все время жить «подвижной» жизнью, пока на этом или на том свете бойко идут дела и я могу наживаться на других вещах, помимо Твоей «Книги». Да и что может быть «более неподвижным», чем смерть, которая против моей воли прекращает мое движение и погружает меня во всеобщее, в природу, в род, в – Святое? А государство, закон, полиция! Пусть они и являются чуждыми силами для того или