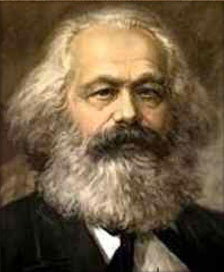эмансипация церкви не может быть проведена без того, чтобы при этом не оказались подорванными основные устои государства; приходится поэтому прибегнуть здесь к системе компромисса. По отношению к католической церкви Фридрих-Вильгельм IV именно это уже и осуществил. Что же касается протестантской церкви, то и здесь очевидные факты раскрывают перед нами его взгляды по этому вопросу: особенно следует упомянуть об отмене принудительной унии[144] и об избавлении старолютеран от того гнёта, который им приходилось терпеть. В протестантском вероисповедании создаётся теперь совершенно своеобразное положение. Оно не имеет видимого главы и вообще не имеет единства, оно распадается на множество сект, и, таким образом, протестантское государство может предоставить этому вероисповеданию свободу не иначе как рассматривая различные секты в качестве корпораций, которым оно предоставляет абсолютную свободу в их внутренних делах. Однако государь не отказывается от своего епископата, а, напротив, оставляет за собой право утверждения и, вообще, суверенитет, но, с другой стороны, он в то же время признаёт над собой власть христианства, а отсюда вытекает, что он должен склоняться также и перед церковью. Таким образом, не только остаются в силе, несмотря на всю видимость разрешения, те противоречия, в которых движется протестантское государство, но получается ещё смешение его принципов с принципами католического государства, что должно привести к поразительной путанице и беспринципности. А это уже не соответствует теологии.
Своими действиями против архиепископа кёльнского[145] протестантское государство, через посредство Альтенштейна и Фридриха-Вильгельма III, выдвинуло положение, что последовательный католик не может быть полезным гражданином. Это положение, подтверждаемое всей историей средних веков, действительно не только для протестантского, но и для всякого государства вообще. Кто всё своё бытие, всю свою жизнь рассматривает как преддверие неба, не может относиться к земным делам с тем интересом, которого государство требует от своих граждан. Государство претендует на то, чтобы составлять для своих граждан всё; оно не признаёт над собой никакой власти и вообще выдаёт себя за абсолютную власть. Между тем, католик признает в качестве абсолютных начал бога и его установление — церковь — и потому никогда не может стать без внутренней оговорки на точку зрения государства. Это противоречие неразрешимо. Даже католическое государство должно, по мнению католика, подчиняться церкви, иначе католик порывает с ним; насколько же значительнее, следовательно, должен быть его разрыв с некатолическим государством? В этом отношении поведение предшествующего правительства было вполне последовательно и обосновано; государство лишь до тех пор может не посягать на свободу католического вероисповедания, пока последнее подчиняется существующим законам. — Такое положение вещей не могло удовлетворить христианского государя. Что же оставалось делать? Протестантское государство не могло отставать от католических Гогенштауфенов, и при той высоте сознания, которой достигли государство и церковь, окончательное разрешение возможно было только путём подчинения одной какой-либо из обеих сторон другой — подчинения, которое для покорившейся стороны было бы равносильно самоуничтожению. Вопрос стал принципиальным, а перед принципами данный единичный случай как таковой должен был бы отступить на задний план. Как же поступил Фридрих-Вильгельм IV? Чисто теологически он обошёл выступающие на передний план, мешающие ему принципы, держался исключительно данного случая, который, будучи оторван от принципов, оказался совершенно запутанным, и попытался разрешить его компромиссным путём. Курия не уступила, — и побитым, следовательно, оказалось государство. К этому сводится прославленное разрешение кёльнской смуты, если говорить о её подлинном содержании.
Те же едва прикрытые противоречия, которые Фридрих-Вильгельм IV вызвал к жизни во взаимоотношениях между государством и церковью, он пытался возбудить и во внутренних отношениях государства. Здесь он мог опереться на уже существующие теории исторической школы права, и задача таким образом оказалась довольно лёгкой. Ход истории сделал принцип абсолютной монархии господствующим в Германии, уничтожил права старых феодальных сословий, превратил короля в божество в государстве. К тому же в промежуток времени от 1807 до 1812 г. остатки средневековья подверглись решительному нападению и были большей частью устранены. И сколько бы потом ни восстанавливали старое, законодательство того времени и прусское право, созданное под влиянием века Просвещения, остались основами прусского законодательства. Такое положение должно было стать невыносимым. Поэтому Фридрих-Вильгельм IV хватался за всё, что он находил ещё из остатков средневековья. Майоратное дворянство было взято им под своё покровительство и усилено новыми пожалованиями дворянского звания под условием учреждения майората; бюргерское сословие как таковое, отделённое от дворян и крестьян, рассматривалось и трактовалось как особое сословие, представляющее торговлю и промышленность; поощрялось обособление корпораций, замкнутость отдельных ремёсел и приближение их к цеховому строю и т. д. Вообще все речи и поступки короля с самого начала говорили о его особом пристрастии к корпоративному строю, что лучше всего характеризует его средневековую точку зрения. Это сосуществование привилегированных объединений, которые могут располагать в своих внутренних делах известной свободой и самостоятельностью, причём каждое из них внутренне связано одинаковыми интересами, и которые в то же время ведут между собой борьбу и строят друг другу всяческие козни, — это раздробление государственных сил вплоть до полного распада государства, характерное для германской империи, образует один из существеннейших моментов средневековья. Само собой понятно, однако, что Фридрих-Вильгельм IV не собирается доводить христианское государство до таких крайних пределов. Хотя он и верит, что призван восстановить истинно-христианское государство, однако по существу он желает только теологической его видимости, блеска и мишуры, а не нужды, гнёта, беспорядка и самоуничтожения христианского государства, словом, он стремится к «золотой середине» средневековья, вроде того как Лео от католицизма приемлет только блестящий культ, церковное благолепие и т. д., но не весь католицизм целиком. Поэтому-то Фридрих-Вильгельм и не является абсолютно антилиберальным и деспотичным в своих стремлениях, упаси боже, — он хочет оставить своим пруссакам все возможные свободы, но оставить их именно лишь в виде несвободы, монополии и привилегии. Он не является решительным врагом свободы печати, он эту свободу даст, но опять-таки как монополию преимущественно учёного сословия. Он не хочет отменять представительство или отвергать его, он только не хочет, чтобы представительством пользовался гражданин как таковой; он стремится к представительству сословий в том виде, в каком оно отчасти уже осуществлено в прусских провинциальных сословных собраниях. Словом, он не признаёт никаких всеобщих, гражданских, человеческих прав, он знает лишь права корпораций, монополии, привилегии. Их он даёт множество, сколько может, не ограничивая своей абсолютной власти определёнными позитивными законами. Быть может, он и на этом не остановится.
Возможно, он лелеет уже сейчас, несмотря на кёнигсбергские и бреславльские заверения[146], тайный замысел увенчать дело, — когда достаточно широко будет осуществлена его теологическая политика, — изданием сословно-имперской средневековой конституции и тем связать руки своим преемникам, которые могут ведь оказаться приверженцами других взглядов. Это было бы последовательно, но допустимо ли это с его теологической точки зрения — остаётся под вопросом.
Мы видели, как неустойчива и беспочвенна, как непоследовательна эта система уже сама по себе; проведение её на практике должно неизбежно повлечь за собой новые колебания и непоследовательность. Холодное прусское чиновническое государство, система контроля, развинченная государственная машина не хотят ничего знать о прекрасной, блестящей, доверчивой романтике. Народ, мол, стоит в общем на слишком ещё низкой ступени политического развития, чтобы уразуметь систему христианского государя. Между тем ненависть к привилегиям дворянства, к притязаниям духовенства всех вероисповеданий укоренилась слишком глубоко, чтобы Фридрих-Вильгельм, действуя совершенно открыто, не потерпел бы здесь неудачу. Вот чем объясняется применявшаяся им до сих пор робкая система нащупывания, при помощи которой он сначала выведывал общественное мнение и затем всё ещё оставлял за собой достаточно времени, чтобы взять назад слишком крутое мероприятие. Отсюда и приём — выдвигать вперёд министров и, при их слишком насильственных действиях, дезавуировать их. Удивительно только, что прусские министры мирятся с этим, не подавая в отставку. Так было ранее с Роховым, а теперь на очереди г-н Эйххорн, хотя не так давно король назвал его рыцарем чести и одобрил его действия. Если бы Фридрих-Вильгельм IV не прибегал к таким теологическим средствам, он давно уже утратил бы любовь народа, которую ему удалось сохранить до сих пор лишь благодаря своему открытому, весёлому нраву, необычайной любезности, приветливости и безудержному остроумию, не щадящему даже коронованных особ. Он, разумеется, остерегается также выдвигать на первый план слишком неприглядные или — более того — безусловно порочные стороны своей системы; он, напротив, говорит о ней так, как если бы она была воплощением всяческого великолепия, величия и свободы, и выступает открыто только в тех случаях, когда его система кажется более либеральной, чем существующая ныне прусская система опеки; а в тех случаях, где он показался бы нелиберальным, он благоразумно держится в тени. Вместе с тем, наделяя обычный конституционализм только такими лестными эпитетами, как «поверхностный», «ординарный», он всё же усвоил себе его терминологию и очень ловко пользуется ею в своих речах — то ли для выражения своих идей, то ли для их маскировки. Точно так же поступают современные теологи, приверженцы системы компромиссов, которые также охотно пользуются политической терминологией, воображая, что таким путём они идут навстречу требованиям времени. Бруно Бауэр называет это без обиняков лицемерием.
Что касается финансового управления при Фридрихе-Вильгельме IV, то он не смог удержаться в рамках того цивильного листа, который был установлен его отцом, определившим, чтобы королю и его двору на основании закона ежегодно отчислялось из доходов доменов 21/2 миллиона талеров, а остальное, наравне с прочими доходами, предназначалось на государственные нужды. Приняв в расчёт даже его частные доходы, можно подсчитать, что король тратит более 21/2 миллионов, — а ведь эта сумма должна идти также и на покрытие годового содержания других принцев. К тому же Бюлов-Куммеров доказал, что так называемая финансовая отчётность прусского государства совершенно иллюзорна. Вообще остаётся полной тайной, как управляют государственными доходами. Пресловутое снижение налогов вряд ли заслуживает упоминания, оно давно могло быть проведено уже при прежнем короле, если бы не его опасение, что он принуждён будет опять их повысить.
Я полагаю, что достаточно сказал о Фридрихе-Вильгельме IV. При его несомненно добродушном характере само собой понятно, что в делах, не имеющих отношения к его теории, он искренне прислушивается к голосу общества и в этих случаях поступает действительно хорошо. Остаётся лишь ещё вопрос, удастся ли ему когда-нибудь провести в жизнь свою систему? На это, к счастью, можно ответить только отрицательно. С прошлого года, с того времени, когда якобы большая свобода была предоставлена печати, ставшей в данный момент опять самой несвободной,