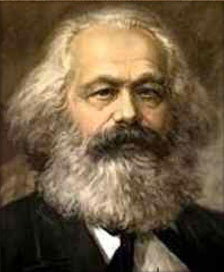исторические основы? Но оратор не отличается последовательностью.
Английская печать не является доводом в пользу печати вообще, потому что она — английская. Голландская печать является доводом против печати вообще, хотя она — только голландская. То все преимущества печати приписываются историческим основам, то все недостатки исторических основ приписываются печати. То печать не имеет своей доли участия в историческом прогрессе, то история не имеет своей доли участия в недостатках печати. Подобно тому как в Англии печать срослась с её историей и особенностями её положения, точно так же обстоит дело и в Голландии и в Швейцарии.
Что же должна делать печать в отношении исторических основ — отображать их, отбрасывать их или развивать? Оратор упрекает её и в одном, и в другом, и в третьем.
Он порицает голландскую печать потому, что она развилась исторически. Она должна была бы задержать ход истории, она должна была бы оградить Голландию от бремени государственного долга! Какое неисторическое требование! Голландская печать не могла задержать ход вещей в период Людовика XIV; голландская печать не могла помешать тому, чтобы английский флот при Кромвеле стал первым в Европе. Она не могла заколдовать океан, чтобы он избавил Голландию от злополучной роли — служить ареной сражений для воюющих континентальных держав; она не могла, — как и все германские цензоры, вместе взятые, — уничтожить деспотические декреты Наполеона.
Но разве когда-нибудь свободная печать умножала государственные долги? А когда во время регентства герцога Орлеанского вся Франция запуталась в бешеных биржевых спекуляциях Ло, — кто тогда выступил наперекор этому фантастическому периоду бури и натиска денежных спекуляций? Только несколько сатириков, которым, конечно, в награду за это достались не банковые билеты, а билеты в Бастилию.
Требование, чтобы печать предохраняла от государственного долга, если пойти ещё дальше, ведёт к тому, что печать должна уплачивать и долги отдельных лиц. Это требование напоминает того литератора, который не переставал сердиться на своего врача за то, что тот, правда, избавил его от болезни, но не избавил заодно его произведений от опечаток. Свобода печати, подобно врачу, не обещает совершенства ни человеку, ни народу. Она сама не является совершенством. Довольно пошлая манера — поносить какое-либо благо за то, что оно — определённое благо, а не совокупность всех благ сразу, что оно — именно это благо, а не какое-либо другое. Конечно, если бы свобода печати представляла собой всё и вся, она сделала бы излишними все остальные функции народа и даже самый народ. Оратор вменяет голландской печати в вину бельгийскую революцию.
Ни один человек с некоторым историческим образованием не станет отрицать, что отделение Бельгии от Голландии было в несравненно большей степени историческим событием, чем их соединение.
Голландская печать вызвала-де бельгийскую революцию. Какая печать? Прогрессивная или реакционная? Такой же вопрос мы можем поставить и относительно Франции; и если оратор порицает клерикальную бельгийскую печать, которая в то же время была демократической, то он точно так же должен порицать и французскую клерикальную печать, которая в то же время была сторонницей абсолютизма. И та и другая содействовали ниспровержению своих правительств. Во Франции не свобода печати, а цензура подготовила почву для революции.
Но оставим это в стороне. Мы знаем, что бельгийская революция проявилась вначале как духовная революция, как революция печати. Вне этих рамок утверждение, будто пресса породила бельгийскую революцию, не имеет никакого смысла. Но разве это заслуживает порицания? Разве революция уже с самого начала должна выступать в материальной форме? Разве она уже с самого начала бьёт, а не говорит? Правительственная власть может материализировать духовную революцию; материальная революция должна прежде всего одухотворить правительственную власть.
Бельгийская революция есть продукт бельгийского духа. Поэтому и печать, — самое свободное в наши дни проявление духа, — принимала участие в бельгийской революции. Бельгийская печать не была бы бельгийской печатью, если бы она стояла в стороне от революции, но точно так же бельгийская революция не была бы бельгийской, если бы она в то же время не была революцией печати. Революция народа целостна; т. е. революция совершается по-своему в каждой области; почему же это не должно быть применимо к печати как таковой?
Оратор порицает, таким образом, в бельгийской печати не печать, он порицает Бельгию. И здесь мы обнаруживаем центральный пункт его исторического обзора свободы печати. Народный характер свободной печати, — как известно, и художник не пишет больших исторических полотен акварелью, — историческая индивидуальность свободной печати, то, что придаёт ей своеобразный характер, делает её выражением определённого народного духа, — всё это не по душе оратору из княжеского сословия. Он даже предъявляет требование к печати различных наций, чтобы она была печатью, выражающей его взгляды, печатью haute volee{15}, и чтобы она вращалась вокруг отдельных личностей, а не вокруг духовных светил — вокруг наций. В критике, которой он подвергает швейцарскую печать, это требование выступает в неприкрытом виде.
Пока мы позволим себе задать один вопрос. Почему не вспомнил оратор, что швейцарская пресса, в лице Альбрехта фон Галлера, выступила против вольтеровского просвещения? Почему он не помнит, что если Швейцария и не Эльдорадо, то всё же она произвела также пророка будущего княжеского Эльдорадо, а именно ещё одного господина фон Галлера, который в своей «Реставрации науки о государстве» заложил основу для «более благородной, истинной» печати, для «Berliner politisches Wochenblatt»[28]? Дерево познаётся по его плодам. И какая ещё земля в мире могла бы похвалиться тем, что она, подобно Швейцарии, произвела плод столь сочного легитимизма?
Оратор ставит в вину швейцарской прессе, что она пользуется «зоологическими названиями партий», вроде «рогатых» и «копытных», одним словом, что она говорит по-швейцарски и со швейцарцами, живущими в патриархальном соседстве с быками и коровами. Пресса этой страны есть пресса именно этой страны. Только это и можно сказать. Но вместе с тем именно свободная пресса выводит людей за тесные рамки местного партикуляризма, как это опять-таки доказывает швейцарская пресса.
О зоологических названиях партий мы, в частности, должны заметить, что сама религия возводит животное в символ духовного. Наш оратор, конечно, осудит ту индийскую прессу, которая в религиозном экстазе поклонялась корове Сабале и обезьяне Гануману. Он поставит индийской прессе в вину индийскую религию, как он швейцарской прессе ставит в вину швейцарский характер. Но есть пресса, которую он едва ли захочет подчинять цензуре, — мы имеем в виду священную прессу — библию. А разве она не делит всё человечество на две большие партии — козлищ и овец? Разве сам бог не характеризует следующим образом своё отношение к коленам Иуды и Израиля: «Для колена Иуды я — моль, а для колена Израиля — червь»? Или, — что для нас, мирян, ближе, — разве нет княжеской литературы, которая превращает всю антропологию в зоологию? Мы имеем в виду геральдическую литературу. Там встречаются ещё большие курьёзы, чем партии «рогатых» и «копытных».
Что же, собственно, порицал оратор в свободе печати? То, что недостатки народа вместе с тем составляют и недостатки его печати, что она есть смелый язык исторического народного духа, его раскрытый образ. Доказал ли он, что на немецкий народный дух эта великая, естественная привилегия не распространяется? Он показал, что каждый народ проявляет свой дух в своей прессе. Неужели же философски образованный дух немцев должен быть лишён того, что, по собственному уверению оратора, можно встретить у швейцарцев, закосневших в своих зоологических представлениях?
Думает ли, наконец, оратор, что национальные недостатки свободной печати не являются также и национальными недостатками цензоров? Разве цензоры изъяты из исторического целого, остаются не затронутыми духом времени? К сожалению, это, может быть, и так. Но какой же здравомыслящий человек не простит скорее печати грехи нации и времени, чем цензуре — грехи против нации и времени?
Мы уже вначале заметили, что в лице различных ораторов, полемизирующих против свободы печати, полемизирует их особое сословие. Оратор из княжеского сословия привёл сначала дипломатические основания. Он доказывал неправомерность свободы печати, исходя из княжеских убеждений, довольно ясно выраженных в законах о цензуре. Он думает, что благородное, истинное развитие немецкого духа вызвано стеснениями сверху. Он, наконец, полемизировал против народов и, преисполненный благородного негодования, отверг свободу печати как неделикатный, нескромный язык народа, обращённый им к самому себе.
Оратор из дворянского сословия, к которому мы теперь переходим, полемизирует не против народов, а против людей. В свободе печати он оспаривает человеческую свободу, в законе о печати — закон. Прежде чем заняться собственно вопросом о свободе печати, он касается вопроса о ежедневном печатании дебатов ландтага в несокращенном виде. Мы последуем за ним шаг за шагом.
«Первое из внесённых предложений, касающееся опубликования наших дебатов, удовлетворено». «Всецело во власти ландтага разумно использовать предоставленное разрешение».
Вот это именно и есть punctum quaestionis{16}. Провинция думает, что ландтаг всецело в её власти с того самого момента, как опубликование дебатов ландтага не предоставлено более произволу его мудрости, а стало необходимым требованием закона. Мы должны были бы назвать эту новую уступку новым шагом назад, если бы пришлось толковать её в том смысле, что печатание будет зависеть от произвола сословного собрания.
Привилегии сословного собрания — это не права провинции. Скорее, наоборот, — права провинции перестают существовать с того именно момента, когда они становятся привилегиями сословного собрания. Так, например, сословия в средние века сосредоточили в своём лице все права страны и обратили их в качестве привилегий против страны.
Гражданин не признаёт прав, существующих в виде привилегий. Может ли он рассматривать как право прибавление новых привилегированных к прежнему кругу привилегированных?
Права ландтага в таком случае не являются более правами провинции, а правами против провинции, и самый ландтаг становится воплощением наибольшего бесправия, обращенного против провинции, притязая при этом на мистическое значение — на ореол величайшего её права.
Следя далее за речью оратора из дворянского сословия, мы увидим, насколько он проникся этим средневековым взглядом на ландтаг, как бесцеремонно он защищает привилегию сословия против права страны.
«Более широкое использование этого разрешения» (публикации дебатов) «может проистекать только из внутреннего убеждения, а не из