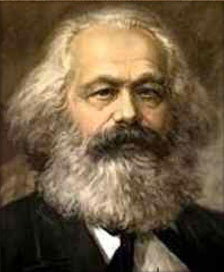проказа, облегчённая на какой-нибудь час, становится потом ещё сильнее и опаснее».
Но так как место старой религии не могло-де оставаться совсем незанятым, то мы получили взамен её новое евангелие, евангелие, соответствующее пустоте и бессодержательности века, — евангелие маммоны. Христианское небо и христианский ад отброшены; первое — как нечто сомнительное, второй — как нечто бессмысленное, но вместо старого ада появился новый; адом нынешней Англии является опасение человека, что он может «не пробиться вперёд, не заработать денег!»
«Поистине, с нашим евангелием маммоны мы пришли к странным выводам! Мы говорим об обществе и всё же проводим повсюду полнейшее разделение и обособление. Наша жизнь состоит не во взаимной поддержке, а, напротив, во взаимной вражде, выраженной в известных законах войны, именуемой «разумной конкуренцией» и т. п. Мы совершенно забыли, что чистоган но составляет единственной связи между человеком и человеком. «Мои голодающие рабочие?» — говорит богатый фабрикант. — «Разве я не нанял их на рынке, как это и полагается? Разве я не уплатил им до последней копейки договорной платы? Что же мне с ними ещё делать?» Да, культ маммоны воистину печальная вера!»
«Одна бедная ирландская вдова в Эдинбурге просила помощи у благотворительного учреждения для себя и троих своих детей. Во всех учреждениях ей было отказано; силы и мужество покинули её; она свалилась в тифозной горячке и умерла, но зараза распространилась по всей улице, отчего умерло ещё семнадцать человек. Человеколюбивый врач, рассказывающий эту историю, д-р У. П. Алисон, спрашивает при этом: разве экономии ради не следовало помочь этой женщине? Она заболела тифом и убила семнадцать человек, живших среди вас! — Есть над чем призадуматься. Покинутая ирландская вдова обращается к своим собратьям: «Смотрите, я погибаю без помощи, вы должны мне помочь, я ваша сестра, я плоть от вашей плоти, нас создал один бог!» А те отвечают: «Нет, ни в коем случае, ты — не наша сестра». Но она на деле доказывает своё родство; её болезнь убивает их; они были её братьями, хотя и отрицали это. Приходилось ли когда-либо людям опускаться ещё ниже в поисках доказательства того, что они люди?»
Карлейль, к слову сказать, здесь заблуждается так же, как и Алисон. У богатых нет сострадания, им нет никакого дела до смерти «семнадцати». Разве это не общественное благо, что «избыточное население» сократилось на семнадцать человек? Сократись оно на несколько миллионов, вместо жалких «семнадцати», было бы ещё лучше. — Так рассуждают английские богачи-мальтузианцы.
А затем другое, ещё худшее, евангелие дилетантизма, создавшее бездеятельное правительство, отнявшее у людей всю их серьёзность и внушившее им желание казаться не тем, что они есть, — это стремление к «благополучию», т. е. к тому, чтобы хорошо попить и хорошо поесть; оно возвело на трон грубую материю и разрушило всякое духовное содержание. К чему же всё это приведёт?
«И что сказать нам правительству, вроде нашего, которое предъявляет своим рабочим обвинение в «перепроизводстве»? Перепроизводство, — разве не в этом суть дела? Это вы, всякого рода производители, вы слишком много произвели! Мы обвиняем вас в том, что вы изготовили более двухсот тысяч рубах для прикрытия наготы человеческой. А брюк, изготовленных вами из плиса, кашемира, шотландки, нанки и шерсти, — разве их не великое множество? И разве вы не производите шляпы и обувь, стулья для сиденья и ложки для еды, а также золотые часы, ювелирные изделия, серебряные вилки, комоды, шифоньерки и мягкую мебель, — о, небо, все торговые базары и всевозможные Хауэлы и Джемсы не могут вместить ваших продуктов; вы всё производили, производили и производили — стоит только посмотреть вокруг, чтобы подтвердить основательность наших обвинений. Миллионы рубах и нераспроданных брюк висят тут как свидетельское показание против вас. Мы обвиняем вас в перепроизводстве; вы повинны в тяжком преступлении, в том, что наготовили рубах, брюк, шляп, обуви и пр. в устрашающем изобилии. И вот следствием этого явился застой, и ваши рабочие должны умирать с голоду».
«Милорды и джентльмены, в чём же обвиняете вы этих бедных рабочих? Вы, милорды и джентльмены, для того и призваны, чтобы заботиться о предотвращении застоя; вы должны были тщательно смотреть за тем, чтобы заработная плата за произведённую работу аккуратно распределялась, чтобы ни один рабочий не остался без своей заработной платы, в чём бы она ни выражалась, в деньгах или пеньковой верёвке для виселицы; с незапамятных времён это было вашей обязанностью. Эти бедные прядильщики забыли многое, о чём они должны были бы помнить согласно действительному, неписаному закону, вытекающему из их общественного положения; но о каком же писаном законе, касающемся их положения, забыли они? Они были наняты для того, чтобы производить рубахи. Общество приказало им: делайте рубахи, — вот они и были сделаны. Слишком много рубах? Какой это является неожиданностью в этом сумасшедшем мире с его девятьюстами миллионов голых тел! Но вам, милорды и джентльмены, общество приказало: смотрите за тем, чтобы эти рубахи были правильно распределены, — и где же это распределение? Два миллиона рабочих, совсем не имеющих рубах или же одетых в рубища, сидят в бастилиях для бедных, пять миллионов других — в голодных подвалах Уголино; и вместо помощи им вы говорите: повысьте нашу ренту! Вы заявляете торжествуя: «вы хотите состряпать обвинение, вы хотите нас упрекнуть в перепроизводстве? Но мы призываем в свидетели небо и землю, что мы вообще ничего не производили. В самых отдалённых уголках мира нет ни одной рубахи, которая была бы сделана нами. Мы неповинны в производстве; наоборот, виновны вы, неблагодарные. Разве нам не пришлось «потребить» целые горы вещей! Разве мы не истребили эти груды товаров, громоздившиеся перед нами, словно у нас лужёные желудки и своего рода божественная способность к пожиранию? О, неблагодарные, разве вы не выросли под сенью наших крыльев? Разве ваши грязные фабрики построены не на нашей земле? И мы не имеем права продавать вам наш хлеб по той цене, по какой нам вздумается? Как вы полагаете, что сталось бы с вами, если бы мы, землевладельцы Англии, вдруг решили вовсе не допускать возделывания хлеба?»»
Этот образ мыслей аристократии, этот варварский вопрос: что сталось бы с вами, если бы мы не были так милостивы, что позволили выращивать хлеб? — породил «безумные и злополучные хлебные законы», хлебные законы, столь бессмысленные, что против них можно спорить лишь такими аргументами, «которые могут довести до слёз ангела на небе и осла на земле». Хлебные законы доказывают, что аристократия ещё не научилась не творить зла, сидеть смирно, ничего не делать, не говоря уж о том, что не научилась делать что-нибудь хорошее; между тем, по Карлейлю, это должно было быть её обязанностью:
«По своему положению аристократия обязана руководить и править Англией, и всякий рабочий в работном доме имеет право спросить в первую очередь её: почему я здесь нахожусь? Его вопрос слышит небо, и если он будет оставлен без внимания, то заставит прислушаться к себе и землю. Рабочий выступает обвинителем против вас, милорды и джентльмены; вы стоите в первом ряду обвиняемых; в силу положения, вами занимаемого, вы должны первыми дать ему ответ! — Судьба тунеядствующей аристократии, насколько можно прочесть её гороскоп в хлебных законах и т. п., это пропасть, которая приводит в отчаяние! Да, мои румяные, охотящиеся на лисиц братья, за вашими свежими холеными липами, за вашим большинством, проведшим хлебные законы, за скользящей шкалой, охранительными пошлинами, подкупами на выборах и шумным триумфом, — за всем этим внимательный глаз откроет потрясающие картины падения, не поддающиеся описанию, увидит начертание «Мене, Мене…». Боже милостивый, разве праздная французская аристократия, едва полвека назад, точно так же не заявляла; мы не можем существовать, не можем по-прежнему одеваться и щеголять, как подобает нашему сословию; земельной ренты с наших поместий нам не хватает, нам нужно иметь больше, нас надо освободить от налогов, нам нужен хлебный закон, чтобы поднять нашу земельную ренту. Это было в 1789 г., а четырьмя годами позже — слыхали ли вы о кожевенном заводе в Мьюдоне, где голытьба мастерила себе штаны из человеческой кожи? Да отвратит милосердное небо это знамение; да будем мы мудрее, чтобы не стать такими же несчастными!»
Деловая же аристократия запутывается в сетях тунеядствующей аристократии; в конце концов со своим «маммонизмом» она также попадает в скверное положение.
«Люди на континенте, по-видимому, вывозят от нас машины, прядут хлопок и производят для самих себя, вытесняя нас то с одного рынка, то с другого. Печальные вести, но далеко ещё не самые печальные. Печальнее всего то, что наше национальное существование, как я слышал, зависит от нашей способности продавать хлопчатобумажные ткани на грош дешевле за локоть, чем продают все другие народы. Слишком уж незначительная опора для великой нации! И эту опору, как мне кажется, нам не удастся сохранить надолго, несмотря на всякие отмены хлебных законов. — Ни одна великая нация, поднимающаяся всё выше и выше, не сможет удержаться на вершине такой пирамиды, балансируя на большом пальце ноги. Словом, это евангелие маммоны, со своим адом безработицы, спроса и предложения, конкуренции, свободы торговли, с девизом: «laissez faire[188], а остальное пусть идёт к чорту», — постепенно начинает становиться самым жалким евангелием, которое когда-либо проповедовалось на земле. — Да, если бы завтра были отменены хлебные законы, то этим ещё ничего не достигли бы; с их отменой создался бы лишь простор для всякого рода предпринимательства. Уничтожьте хлебные законы, сделайте торговлю свободной, тогда несомненно исчезнет нынешнее вялое состояние промышленности. Наступит снова период торгового предпринимательства, торжества и расцвета; петля голода, сдавливающая нашу шею, ослабнет, мы снова получим возможность дышать и время, чтобы опомниться и раскаяться, трижды драгоценное время для того, чтобы бороться за реформу наших дурных порядков так, как мы боремся за собственную жизнь, чтобы воспитать народ, облегчить и улучшить его образ жизни, чтобы дать ему немного духовной пищи, действительное руководство и правительство, — что за бесценное будет время! Однако при старом методе: «да здравствует конкуренция, а остальное пусть идёт к чорту!» наш новый период расцвета окажется и должен оказаться в конце концов только пароксизмом и, вероятно, нашим последним пароксизмом. В самом деле, если за двадцать лет наша промышленность удвоится, то за двадцать лет удвоится также и население наше; мы придём туда же, где и