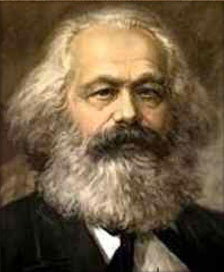Выслушай меня спокойно![30]
Разве в стране цензуры нет уже вовсе никакой свободы печати? Печать вообще есть осуществление человеческой свободы. Следовательно, там, где есть печать, есть и свобода печати.
В стране цензуры государство, правда, не пользуется свободой печати, но один из органов государства ею всё-таки пользуется — правительство. Не говоря уже о том, что официальные произведения правительства пользуются полной свободой печати, разве цензор не практикует ежедневно безусловную свободу печати, если не прямо, то косвенно?
Писатели, так сказать, — секретари цензора. Если секретарь не сумел выразить мнение начальника, последний просто зачёркивает негодное произведение. Цензура, стало быть, творит эту печать.
Цензорские перечеркивания представляют для печати то же самое, что прямые линии — гуа[31]— китайцев для мышления. Гуа цензора — категории литературы, а категория, как известно, это — существенное, типическое во всём многообразии содержания.
Свобода настолько присуща человеку, что даже её противники осуществляют её, борясь против её осуществления; они хотят присвоить себе как драгоценнейшее украшение то, что они отвергли как украшение человеческой природы.
Ни один человек не борется против свободы, — борется человек, самое большее, против свободы других. Во все времена существовали, таким образом, все виды свободы, но только в одних случаях — как особая привилегия, в других — как всеобщее право.
Только теперь вопрос этот получил правильную постановку. Вопрос не в том, должна ли существовать свобода печати, — она всегда существует. Вопрос в том, составляет ли свобода печати привилегию отдельных лиц или же она есть привилегия человеческого духа. Вопрос в том, должно ли то, что по отношению к одной стороне есть право, стать бесправием по отношению к другой стороне. Не имеет ли «свобода духа» больше прав, чем «свободы, направленные против духа»?
Но если следует отвергнуть «свободную печать»» и «свободу печати»» как осуществление «всеобщей свободы», то тем более следует отвергнуть цензуру и подцензурную печать как осуществление особой свободы, — ибо может ли годиться вид, когда негоден род? Если бы оратор был последователен, он должен был бы отвергнуть не свободную печать, а печать вообще. Согласно его взгляду, печать только тогда была бы хороша, если бы она не была продуктом свободы, т. е. не была бы продуктом человеческой деятельности. На печать, следовательно, имели бы право либо только животные, либо боги.
Или, может быть, мы должны — оратор не осмеливается это высказать прямо — приписать правительству, да и ему самому, божественное откровение?
Если частное лицо возомнит о себе, что ему присуще божественное откровение, то в нашем обществе только один оппонент может официально его опровергнуть — психиатр.
Но английская история достаточно ясно показала, как идея божественного откровения свыше порождает противоположную идею о божественном откровении снизу: Карл I взошёл на эшафот благодаря божественному откровению снизу.
Правда, наш оратор из дворянского сословия, продолжая свои рассуждения, изображает, как мы услышим далее, цензуру и свободу печати, подцензурную печать и свободную печать, в виде двух зол, но он ещё не доходит до того, чтобы признать печать вообще злом.
Наоборот! Он делит всю печать на «хорошую»» и «дурную»» печать.
Про дурную печать он нам рассказывает невероятные вещи: целью её, утверждает он, являются злонравие и распространение этого злонравия. Не будем касаться того, что оратор считает нас слишком легковерными, когда требует, чтобы мы верили ему на слово, будто существует злонравие как профессия. Мы напомним ему только его аксиому насчёт несовершенства всего человеческого. Не вытекает ли отсюда тот вывод, что и дурная печать не есть совершенно дурная, т. е. что она является хорошей, а хорошая не есть совершенно хорошая, т. е. что она является дурной?
Но оратор показывает нам оборотную сторону медали. Он утверждает, что дурная печать лучше хорошей, так как дурная постоянно находится, по его собственному мнению, в положении наступающей, хорошая же — в положении обороняющейся. Но он сам ведь сказал, что развитие человека кончается только с его смертью. Правда, этим он сказал немного, не сказал ничего кроме того, что жизнь кончается со смертью. Если же жизнь человека есть развитие, а хорошая печать всегда находится в положении обороняющейся, «только даёт отпор, сдерживает и укрепляет», то разве этим она не оказывает непрерывное сопротивление развитию, а стало быть, и жизни? Следовательно, либо эта хорошая оборонительная печать дурна, либо развитие есть зло. Таким образом, утверждение оратора, что цель «дурной печати заключается в возможно более широком распространении дурных принципов и в возможно большем поощрении дурных умонастроений» — это утверждение перестаёт быть мистически невероятным, получив теперь рациональное толкование: зло дурной печати заключается в наиболее широком распространении принципов и в поощрении умонастроений.
Взаимоотношение между хорошей и дурной печатью становится ещё более странным, когда оратор нас уверяет, что хорошая печать бессильна, а дурная всесильна, ибо первая не имеет влияния на народ, вторая же производит неотразимое влияние. Для оратора хорошая печать и бессильная печать тождественны. Не хочет ли он сказать, что хорошее есть бессильное или что бессильное есть хорошее?
Пению сирен дурной печати он противопоставляет трезвый голос хорошей. А ведь трезвым голосом можно петь лучше всего и с наибольшим эффектом. Но оратору, очевидно, знаком только чувственный жар страсти, он не знает горячей страсти к истине, победоносного энтузиазма разума, неотразимого пафоса нравственных сил.
К умонастроениям дурной печати он относит «гордыню, не признающую никакого авторитета за церковью и государством», «зависть», проповедующую уничтожение аристократии, и многое другое, к чему мы ещё вернёмся. Пока же мы ограничимся вопросом: на каком основании оратор выделяет указанные учреждения как добро? Если всеобщие силы жизни дурны, — а мы только что слышали, что зло всемогуще и одно лишь действует на массы, — то спрашивается, кто и что вправе выдавать себя за воплощение добра? Ведь утверждение, что моя индивидуальность есть добро, что те немногие личности, которые соответствуют моей индивидуальности, являются также воплощением добра, — ведь это утверждение чрезвычайно высокомерно, и злая, дурная печать никак не хочет признать его! Дурная печать!
Если оратор с самого начала превратил нападки на свободу печати в нападки на свободу вообще, то теперь они превращаются у него в нападки на добро. Его страх перед злом оказывается страхом перед добром. В основание цензуры он кладёт, следовательно, признание зла и отрицание добра. В самом деле, разве я не презираю того человека, которому заранее говорю: противник твой должен победить в борьбе, потому что ты хоть и весьма трезвый парень и прекрасный сосед, но в герои совершенно не годишься; хотя ты и освятил своё оружие, но ты не умеешь им владеть; хотя мы оба — и я и ты — вполне убеждены в твоём совершенстве, но мир никогда не будет разделять этого убеждения; пусть дело и неплохо обстоит в отношения твоих намерений, но весьма плохо — в отношении твоей энергии.
Хотя устанавливаемое оратором деление печати на хорошую и дурную делает излишними всякие дальнейшие возражения, так как оно запутывается в своих собственных противоречиях, всё же мы не должны упускать из виду главного, а именно, что оратор совершенно неправильно ставит вопрос и в качестве основания приводит то, что он ещё должен обосновать.
Если хотят говорить о двух видах печати, то это различие следует выводить из самой сущности печати, а не из соображений, лежащих вне её. Подцензурная печать или свободная печать, — одна из этих двух должна быть хорошей или дурной печатью. Ведь о том и идёт спор, какая именно печать хороша — подцензурная или же свободная печать, т. е. соответствует ли сущности печати свободное или же несвободное бытие. Выставлять дурную печать как довод против свободной печати значит утверждать, что свободная печать дурна, а подцензурная хороша, — но ведь это-то как раз и нужно было доказать.
Низменный образ мыслей, личные дрязги, гнусности могут иметь место как в подцензурной, так и в свободной печати. То обстоятельство, что как та, так и другая приносят отдельные плоды того пли иного вида, не составляет, следовательно, их родового отличия. И на болоте растут цветы. Здесь дело идёт о той сущности, о том внутреннем характере, которыми отличаются друг от друга подцензурная печать и печать свободная.
Та свободная печать, которая дурна, не соответствует характеру своей сущности. Подцензурная же печать в своём лицемерии, бесхарактерности, в присущем ей языке кастрата, в своём собачьем вилянии проявляет только внутренние условия своей сущности.
Подцензурная печать остаётся дурной, даже когда она приносит хорошие плоды, ибо плоды эти хороши лишь постольку, поскольку они внутри подцензурной печати служат проявлением свободной печати и поскольку для них не характерно то обстоятельство, что они оказались плодами подцензурной печати. Свободная печать остаётся хорошей, даже если она приносит дурные плоды, ибо эти плоды представляют собой лишь отклонения от природы свободной печати. Кастрат плох, как человек, даже если он обладает хорошим голосом. Природа остаётся хорошей, даже если она и производит уродов.
Сущность свободной печати — это мужественная, разумная, нравственная сущность свободы. Характер подцензурной печати — это бесхарактерное уродство несвободы, это — цивилизованное чудовище, надушенный урод.
Или нужны ещё доказательства того, что свобода печати соответствует сущности печати, а цензура противоречит ей?
Разве не понятно само собой, что внешние преграды духовной жизни не принадлежат к внутреннему характеру этой жизни, что они отрицают эту жизнь, а не утверждают её?
Чтобы действительно оправдать цензуру, оратор должен был бы доказать, что цензура составляет сущность свободы печати. Вместо этого он доказывает, что свобода не составляет сущности человека. Он отвергает весь род в целом, чтобы сохранить одну хорошую его разновидность, ибо свобода есть ведь родовая сущность всего духовного бытия, а следовательно, и печати. Чтобы уничтожить возможность зла, он уничтожает возможность добра и осуществляет зло, ибо человечески хорошим может быть лишь то, что является осуществлением свободы.
Мы поэтому до тех пор будем считать подцензурную печать дурной печатью, пока нам не докажут, что цензура вытекает из самой сущности свободы печати.