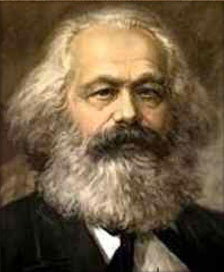угнетении печати цензорами слишком мало цензурного гнёта.
Надо как-нибудь выпутаться из этого противоречия.
«Пока ещё существует цензура, её настоятельнейший долг — вырезывать те отвратительные наросты мальчишеского бесчинства, которые в последние дни так часто оскорбляли наш глаз».
Слабые глаза! Слабые глаза! И «самый слабый глаз будет оскорблён выражением, которое может быть рассчитано только на уровень понимания широкой массы».
Если одно уже смягчение общей цензуры даёт возможность появиться отвратительным наростам, то разве не в большей ещё мере будет способствовать этому свобода печати? Если наши глаза настолько слабы, что они не выносят вида «бесчинств» подцензурной печати, то каким же образом они станут настолько сильными, чтобы выносить «смелость»{39} свободной печати?
«Пока существует цензура, её настоятельнейший долг…». Ну, а если бы она перестала существовать, что тогда? Эта фраза должна быть понята так: настоятельнейший долг цензуры — продолжать существовать как можно дольше.
«Мы не призваны выступать в качестве публичного обвинителя, и мы поэтому отказываемся от более подробных указаний».
Что за ангельская доброта в этом человеке! Он отказывается от более конкретных «указаний», а ведь только совершенно конкретными, совершенно определёнными пояснениями он мог бы доказать и показать, чего он сам, собственно, хочет. Вместо этого он лишь произносит вполголоса, как бы вскользь, неясные слова с целью сеять подозрения. Он не призван выступать публичным обвинителем, а призван выступать только тайным обвинителем.
В конце концов, бедняга вспоминает, что его обязанность состоит ведь в том, чтобы писать либеральные передовицы и изображать из себя «лойяльного поборника свободы печати». Вот он и становится в позу такого поборника:
«Мы не могли подавить в себе протеста против такого образа действий, который, если не является просто следствием случайного упущения, не может иметь другой цели, как только дискредитировать в общественном мнении более свободное движение печати и дать таким образом козырь в руки противникам этой свободы, боящимся выступить с открытым забралом, чтобы не потерпеть неудачу».
Цензура, — поучает нас этот столь же смелый, сколь и остроумный защитник свободы печати, — если она только не является английским леопардом с надписью: «I sleep, wake me not!»{40}, пошла по этому «пагубному» пути, дабы скомпрометировать перед общественным мнением более свободное движение печати.
Разве надо ещё компрометировать такое движение печати, которое считает своим долгом обращать внимание цензуры на «случайные упущения», которое надеется, что «перочинный нож цензора» поддержит его реноме перед общественным мнением?
«Свободным» может быть названо такое движение лишь постольку, поскольку и вольность бесстыдства иногда именуется «свободой», а разве это не бесстыдство глупости и лицемерия — выдавать себя за поборника расширения свободы печати и одновременно с этим поучать нас, что пресса неминуемо свалится в канаву, как только её перестанут водить под руку два жандарма.
И к чему вся цензура, к чему все эти передовицы, если философская пресса сама себя компрометирует в глазах общественного мнения? Разумеется, автор ни в коем случае не хочет ограничения «свободы научного исследования».
«В наши дни научному исследованию предоставлено по праву самое широкое, самое неограниченное поприще».
Какое, однако, представление о научном исследовании имеет сей муж, это может показать следующее заявление:
«Необходимо проводить строгое различие между тем, чего требует свобода научного исследования, от которого само христианство может только выиграть, и тем, что лежит за пределами научного исследования».
Кто должен определять границы научного исследования, как не само научное исследование? По мысли данной передовой статьи, границы науки должны быть ей предписаны. Передовица, таким образом, признаёт существование «официального разума», который не учится у науки, а поучает её и, как некое учёное провидение, устанавливает, каких размеров должен быть каждый волосок в бороде учёного мужа, чтобы он стал воплощением мировой мудрости. Передовица верит в научное вдохновение цензуры.
Прежде чем следовать дальше за этими вздорными рассуждениями передовицы по поводу «научного исследования», насладимся на минуту «философией религии» г-на Г.{41}, его «собственной наукой».
«Религия является основой государства и необходимейшим условием всякого общественного объединения, не направленного исключительно на достижение внешней пели».
Доказательство: «В её грубейшей форме, в форме детского фетишизма, она всё же в известной степени возвышает человека над его чувственными вожделениями, которые, если человек всецело подчиняется им, низводят его до уровня животного и делают его неспособным к выполнению какой-либо более высокой задачи».
Автор передовицы называет фетишизм «грубейшей формой» религии. Он, следовательно, признаёт то, что и без его согласия уже установлено представителями «научного исследования», а именно, что «обоготворение животных» является более высокой формой религии, чем фетишизм; но разве обоготворение животных не ставит человека ниже уровня животных, разве оно не делает животного богом человека?
А эти разговоры о «фетишизме»! Вот где учёность, почерпнутая из копеечных брошюрок! Фетишизм весьма далёк от того, чтобы возвысить человека над его чувственными вожделениями, — он, напротив, является «религией чувственных вожделений». Распалённая вожделением фантазия создаёт у фетишиста иллюзию, будто «бесчувственная вещь» может изменить свои естественные свойства для того только, чтобы удовлетворить его прихоть. Грубое вожделение фетишиста разбивает поэтому свой фетиш, когда тот перестаёт быть его верно-подданнейшим слугой.
«У наций, достигших высокого исторического значения, эпоха расцвета их народной жизни совпадает с эпохой высочайшего развития их религиозного сознания, а период упадка их величия и силы совпадает с периодом упадка их религиозной жизни».
Чтобы стать истинным, утверждение автора должно быть прямо перевёрнуто, — автор просто поставил историю на голову. Греция и Рим являются как раз странами наиболее высокого «исторического развития» среди народов древнего мира. Высочайший внутренний расцвет Греции совпадает с эпохой Перикла, высочайший внешний расцвет — с эпохой Александра. В эпоху Перикла софисты, Сократ, которого можно назвать олицетворением философии, искусство и риторика вытеснили религию. Эпоха Александра была эпохой Аристотеля, который отверг и вечность «индивидуального» духа и бога позитивных религий. Тем более это верно по отношению к Риму! Читайте Цицерона! Философские учения Эпикура, стоиков или скептиков были религиями образованных римлян в тот именно период, когда Рим достиг вершины своего развития. Если с гибелью древних государств исчезают и их религии, то этот факт не нуждается в особых объяснениях, так как «истинной религией» древних был культ их собственной «национальности», их «государства». Не гибель древних религий повлекла за собой гибель древних государств, а, наоборот, гибель древних государств повлекла за собой гибель древних религий. И такое вот невежество, какое проявила обсуждаемая передовица, провозглашает себя «законодателем научного исследования» и издаёт «декреты» для философии!
«Весь древний мир должен был погибнуть потому именно, что вместе с успехами, которых народы достигли в области науки, должны были обнаружиться и те заблуждения, на которых покоились их религиозные воззрения».
Следовательно, весь древний мир, по мнению автора передовицы, погиб потому, что развитие науки раскрыло заблуждения древних религий. Не избежал ли бы древний мир гибели, если бы наука обошла молчанием заблуждения религии, если бы римские власти, следуя совету автора передовицы, изъяли произведения Лукреция и Лукиана?
Мы себе позволим, кстати, обогатить учёность г-на Г. одним сообщением.
Как раз в то время, когда приближалась гибель античного мира, возникла александрийская школа, которая старалась насильственным путём доказать «вечную истину» греческой мифологии и её полное соответствие «результатам научного исследования». Это направление, к которому принадлежал ещё император Юлиан, полагало, что можно заставить совершенно исчезнуть дух времени, пролагающий себе путь, — стоит только закрыть глаза, чтобы не видеть его. Останемся, однако, в плоскости выводов самого Г. В древних религиях «слабые проблески мысли о божественном начале были окутаны густым мраком заблуждений» и не могли поэтому противостоять доводам научных исследований. С христианством дело обстоит как раз наоборот, — такой вывод сделает из этих слов всякая мыслительная машина. И действительно, Г. утверждает:
«Величайшие результаты научного исследования служили до сих пор только тому, чтобы подтверждать истины христианской религии».
Не станем здесь говорить о том, что все без исключения философские учения прошлого обвинялись, каждое в своё время, теологами в отступничестве от христианской религии, причём этой участи не избегли даже благочестивый Мальбранш и выступивший как вдохновлённый свыше Якоб Бёме; что Лейбниц был прозван брауншвейгскими крестьянами «Lowenix» (ни во что не верующим) и был обвинён в атеизме англичанином Кларком и другими сторонниками Ньютона. Не станем напоминать и о том, что христианство, как это утверждает наиболее солидная и последовательная часть протестантских теологов, не может согласоваться с разумом, так как «светский» разум находится в противоречии с «религиозным» разумом, — что выразил уже Тертуллиан своей классической формулой: «verum est, quia absurdum est»{42}. Мы только скажем: можете ли вы доказать согласованность выводов науки и религии каким-либо другим путём, кроме того, что, предоставив науке полную свободу развития, вы тем самым принудили бы её раствориться в религии? Всякое другое принуждение, во всяком случае, не было бы доказательством.
Конечно, если вы с самого начала признали результатом научного исследования только то, что согласуется с вашими взглядами, то вам нетрудно выступать в роли пророков. Но какое преимущество имеет тогда ваше доказательство перед утверждением индийского брамина, который доказывает святость вед[44] тем, что признаёт за собой исключительное право читать их!
Да, — говорит Г., — «речь идёт о научном исследовании». Но ведь всякое исследование, которое противоречит христианству, «остаётся на полпути» или «идёт по ложному пути». Можно ли ещё больше облегчить себе аргументацию?
Научное исследование, если оно только «уяснило себе содержание добытых им результатов, никогда не будет противоречить истинам христианства», — но в то же время государство должно заботиться о том, чтобы это «уяснение» стало невозможным, ибо исследование не должно приспособлять своё изложение к уровню понимания широкой массы, т. е. никогда не должно стать понятным и ясным для самого себя! Даже и тогда, когда во всех газетах монархии исследователи, далёкие от науки, поносят науку, она должна соблюдать скромность и молчать.
Христианство исключает-де возможность «всякого нового упадка», но полиция должна следить за тем, чтобы