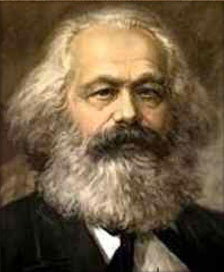беспрепятственно соединились с сардинцами. Чтобы во всей полноте продемонстрировать свою беспомощность, Дыолаи приказывает произвести рекогносцировку у Монтебелло, словно заранее желая показать, что староавстрийский дух неуверенного нащупывания и тяжелого раздумья в военном командовании все еще жив, как во времена блаженной памяти гофкригсрата[374]. Он целиком предоставляет инициативу противнику. Свою армию он распыляет от Пиаченцы до Ароны, чтобы, на излюбленный австрийский манер, везде иметь непосредственное прикрытие. Традиции Радецкого за какие-нибудь десять лет уже преданы забвению. Когда неприятель наступает у Палестро, отдельные австрийские бригады так медленно и разрозненно вступают в бой, что каждую из них выбивают с позиции еще до прихода другой. Когда же неприятель действительно предпринимает маневр, возможность которого придавала какой-то смысл всей позиции у Ломеллины — фланговый марш от Верчелли на Боффалору, — когда, наконец, представился случай ударом на Новару парировать этот смелый маневр и использовать невыгодное положение противника, Дьюлаи теряет голову и бежит обратно через Тичино, чтобы, сделав крюк, преградить наступающему противнику путь с фронта. Во время этого отступления 3 июня в 4 часа утра в главной квартире в Розате появляется Хесс. Возродившийся в Вороне гофкритсрат, по-видимому, усомнился в способностях Дьюлаи как раз в самый решительный момент. Теперь, таким образом, здесь оказалось два главнокомандующих. По предложению Хесса, все колонны были задержаны до тех пор, пока Хесс не убедился, что момент для атаки на Новару упущен и что нужно предоставить события их естественному ходу. Между тем на это ушло почти пять часов, и движение войск было на это время приостановлено{159}. Войска прибывают к Мадженте на протяжении 4 июня разрозненными колоннами, голодные, усталые; они тем не менее дерутся прекрасно и с отличным успехом, пока Мак-Магон, нарушая приказ идти от Турбиго прямым путем на Милан, не сворачивает на Мадженту и не нападает на австрийский фланг. Тем временем подходят остальные французские корпуса, австрийские же запаздывают, и сражение оказывается проигранным. Отступление австрийцев происходит так медленно, что под Меленьяно одну из их дивизий атакуют целых два французских армейских корпуса. Одна бригада удерживает этот пункт против шести французских бригад в течение нескольких часов и отступает лишь после того, как теряет свыше половины личного состава. Дьюлаи, наконец, смещают. Армия отступает от Мадженты по большой дуге, обходя Милан, и еще успевает (так мало думали о преследовании!) прийти на позиции у Кастильоне и Лонато раньше противника, который двигался по более короткой хорде. Сообщалось, будто эту позицию, которая была с давних пор тщательнейшим образом изучена австрийцами, Франц-Иосиф сам разыскал для своих войск. Факт тот, что она издавна входила в систему обороны четырехугольника крепостей и представляла отличную позицию для оборонительного сражения с контратаками. Здесь австрийская армия, наконец, соединилась с подкреплениями, подошедшими теперь или находившимися до этого времени в резерве. Но как только неприятель прибыл на другой берег Кьезе, снова раздался сигнал к отступлению, и армия отошла за Минчо. Едва эта операция была закончена, как австрийская армия снова перешла через ту же Минчо, чтобы отбить у неприятеля позицию, которую она ему только что добровольно уступила. В этом хаосе ordre, contre-ordre, desordre {приказа, контрприказа, беспорядка. Ред.}, с уже сильно подорванным доверием к верховному командованию, австрийская армия вступает в бой под Сольферино. Это было беспорядочное взаимное истребление; о тактическом руководстве не было и речи ни с французской, ни с австрийской стороны. Неспособность, растерянность и боязнь ответственности в большей степени у австрийских генералов, большая уверенность у французских бригадных и дивизионных начальников, природное превосходство французов в ведении боя в рассыпном строю и в населенных пунктах, доведенное до совершенства в Алжире, — в результате всего этого австрийцы в конце концов были прогнаны с поля боя. На этом кампания кончается, и кто же мог радоваться этому больше, чем бедный г-н Оргес, в обязанности которого входило на все лады расхваливать в аугсбургской «Allgemeine Zeitung» австрийское верховное командование и объяснять его действия разумными стратегическими соображениями.
Луи-Наполеон был также совершенно удовлетворен. Тощая слава Мадженты и Сольферино все же превосходила ту, на которую он имел право рассчитывать, а среди фатальных четырех крепостей все-таки мог как-нибудь наступить момент, когда австрийцы не дали бы больше бить себя своим собственным генералам. К тому же провела мобилизацию Пруссия, и ни французская армия на Рейне, ни русские войска не были готовы к войне. Короче, идея свободной Италии до Адриатического моря была оставлена. Луи-Наполеон предложил мир, и был подписан Виллафранкский договор. Франция не приобрела ни одной пяди земли; отошедшую к ней Ломбардию она великодушно подарила Пьемонту; она вела войну за идею, как могла она думать о рейнской границе!
Между тем Центральная Италия временно присоединилась к Пьемонту, и североитальянское королевство представляло тогда довольно внушительную силу.
Прежние провинции на материке и остров Сардиния с населением 4 730 500 человек
Ломбардия, без Мантуи, около 2 651700»
Тоскана 1 719 900»
Парма и Модена 1 090 900»
Романья (Болонья, Феррара,
Равенна и Форли) 1 058 800»
Всего (по данным 1848 г.) 11 251 800 человек
Площадь страны возросла с 1373 до 2684 немецких кв. миль {Немецкая миля равна 7420 метрам. Ред.}. Таким образом, североитальянское королевство, если бы оно окончательно сложилось, было бы первым итальянским государством. Наряду с ним оставалось только еще:
в Венеции 2 452 900 человек
«Неаполе 8 517 600»
«оставшейся части Папской области 2 235 600»
Всего 13 206 100 человек
Таким образом, Северная Италия одна имела бы столько же населения, сколько все остальные итальянские земли, вместе взятые. В соответствии с финансовым и военным могуществом и уровнем цивилизации своего населения такая страна могла бы претендовать в Европе на более высокое положение чем Испания, следовательно, на место непосредственно за Пруссией, и, уверенная в растущих симпатиях остальной Италии» она безусловно потребовала бы для себя такого положения.
Но это было не то, чего хотела бонапартистская политика. Единую Италию — во всеуслышание заявила Франция — она не может и не будет терпеть. Под независимостью и свободой Италии французы понимали нечто вроде итальянского Рейнского союза под бонапартистским протекторатом и почетным председательством папы, замену австрийской гегемонии французской. В то же время распространялась благая идея создать в Центральной Италии этрусское королевство, итальянское Вестфальское королевство для наследника Жерома Бонапарта[376]. Всем этим планам положила конец консолидация североитальянского государства. Жером Бонапарт junior {младший. Ред.} во время своего турне по герцогствам ничего для себя не приобрел, даже ни одного голоса; бонапартистская Этрурия была так же невозможна, как и реставрация; ничего другого не оставалось, как присоединение к Пьемонту[377].
Но по мере того, как обнаруживалась неизбежность объединения Северной Италии, все определеннее обрисовывалась «идея», во имя которой Франция вела эту войну. Это была идея присоединения Савойи и Ниццы к Франции. Уже во время войны раздавались голоса, которые указывали на это присоединение как на цену французского вмешательства в итальянские дела. Их, однако, но слушали. И разве не опроверг их Виллафранкский договор? Тем не менее всему миру стало вдруг известно, что при национальном и конституционном управлении re galantuomo {короля-джентльмена (имеется в виду Виктор-Эммануил II). Ред.} две провинции томились под чужеземным господством — две французские провинции, обратившие свои полные слез и надежд взоры в сторону великой родины, от которой они были отделены только грубой силой — и Луи-Наполеон не мог больше оставаться глухим к отчаянным воплям, доносившимся из Ниццы и Савойи.
Теперь, во всяком случае, стало ясно, что Ницца и Савойя были той ценой, за которую Луи-Наполеон готов был пойти на воссоединение Венеции и Ломбардии с Пьемонтом, и что он запросил эту цену за свое согласие на присоединение Средней Италии потому, что получить в данный момент Венецию было невозможно. Теперь начались гнусные маневры бонапартовских агентов в Ницце и Савойе и крики подкупленной парижской прессы о том, что пьемонтское правительство подавляет в этих провинциях волю народа, который громко требует присоединения к Франции. Теперь, наконец, в Париже было открыто сказано, что Альпы — естественная граница Франции, что Франция имеет право на них.
Когда французская пресса утверждает, что Савойя по языку и обычаям близка Франции, то это по меньшей мере столь же верно, как и подобное утверждение в отношении французской Швейцарии, валонской части Бельгии и англо-нормандских островов в Ла-Манше. Народ Савойи говорит на южнофранцузском диалекте; языком образованных слоев и литературным повсюду является французский. Итальянский элемент в Савойе столь незначителен, что французский (т. е. южнофранцузский или провансальский) народный язык проник даже через Альпы в Пьемонт, до верхних долин рек Доры-Рипарии и Доры-Бальтеи. Несмотря на это, до войны решительно ничего не было слышно о симпатиях в пользу присоединения к Франции. Подобные мысли кое-где были только у отдельных лиц в Нижней Савойе, которая поддерживает некоторые торговые сношения с Францией, массе населения они были здесь так же чужды, как и во всех других пограничных с Францией и говорящих по-французски странах. Вообще характерно, что из стран, которые с 1792 по 1812 г. были под властью Франции, ни одна не испытывает ни малейшего желания вернуться под крылья французского орла. Плоды первой французской революции были ими освоены, но им до отвращения надоели строгая централизация управления, хозяйничание префектов, непогрешимость посылавшихся из Парижа апостолов цивилизации. Симпатии к Франции, вновь пробужденные июльской и февральской революциями, бонапартизм снова тотчас же подавил. Ни у кого нет желания импортировать Ламбессу, Кайенну и loi des suspects[378]. К тому же китайская замкнутость Франции в отношении почти всякой ввозной торговли дает себя знать сильнее всего именно на границе. Первая республика находила на всех границах угнетенные, истощенные провинции, раздробленные, лишенные своих общих естественных интересов народы, которым она несла освобождение сельского населения, земледелия, торговли и промышленности. Вторая империя наталкивается на всех границах на большую свободу, чем она сама может предложить; она сталкивается в Германии и Италии с окрепшим национальным чувством, в малых странах— с консолидированными сепаратными интересами, которые за время сорокапятилетнего необычайно быстрого промышленного развития выросли и по всем направлениям переплелись с мировой торговлей. Вторая империя не несет им ничего, кроме деспотизма времен римских цезарей, ничего, кроме заключения торговли