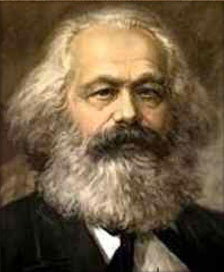римских проконсулов, преторов и префектов. Пожалуй, ни в одном другом месте римская жестокость не справляла таких сатурналий, как здесь. Неимущие свободные горожане и крестьяне, которые не могли уплачивать требуемой с них разорительной дани, безжалостно продавались в рабство — сами или их дети — сборщиками налогов.
Тем не менее, и при Дионисии Сиракузском, и при римском владычестве в Сицилии вспыхивали страшные восстания рабов, в которых зачастую туземцы и ввезенные на остров рабы боролись сообща. В эпоху распада Римской империи в Сицилию вторгались многие завоеватели. Затем на некоторое время ею завладели мавры; но сицилийцы — и прежде всего коренные жители, населяющие внутреннюю часть острова, — все время оказывали более или менее успешное сопротивление и шаг за шагом отстаивали или завоевывали различные мелкие вольности. И едва стала заниматься заря над мраком средневековья, как сицилийцы уже не только завоевали целый ряд муниципальных вольностей, но и выработали зародышевые формы конституционного правления, какого тогда еще нигде не существовало. Раньше чем любая другая европейская нация, сицилийцы. путем голосования регулировали доходы своих правительств и государей. Таким образом, сицилийская почва издавна оказывалась смертельной для угнетателей и завоевателей, а Сицилийская вечерня останется навеки бессмертной в истории[32]. Когда Арагонская династия поставила сицилийцев в зависимость от Испании, они сумели сохранить в большей или меньшей неприкосновенности свои политические вольности, и этого они добились как при Габсбургах, так и при Бурбонах. Когда французская революция и Наполеон изгнали из Неаполя царствовавшую там тираническую династию, сицилийцы, подстрекаемые и соблазняемые английскими обещаниями и гарантиями, приняли к себе беглецов и, борясь с Наполеоном, защищали их своей кровью и поддерживали своими деньгами. Каждый знает, какой изменой отплатили им впоследствии
Бурбоны и какими уловками и бессовестными опровержениями Англия пыталась и пытается до сих пор замаскировать вероломство, с которым она предала на милость Бурбонов сицилийский народ и его вольности.
В настоящее время политический, административный и фискальный гнет тяготеет над всеми классами народа; вот почему эти обиды выдвигаются на первый план. Но почти вся земля находится до сих пор в руках сравнительно небольшого числа крупных землевладельцев или баронов. Средневековая система землевладения до сих пор сохраняется в Сицилии, с той лишь разницей, что земледелец не является крепостным; он вышел из крепостной зависимости примерно в XI столетии, когда стал свободным арендатором. Но условия этой аренды по большей части настолько тяжелы, что огромное большинство земледельцев работает исключительно на сборщика налогов и на барона, почти ничего не производя сверх того, что необходимо для уплаты налогов и ренты. Сами они живут или в полной нищете, или, по меньшей мере, в сравнительной бедности. Хотя они выращивают знаменитую сицилийскую пшеницу и прекрасные фрукты, сами они круглый год нищенски питаются одними бобами.
Теперь Сицилия опять истекает кровью, а Англия спокойно смотрит на эти новые сатурналии гнусного Бурбона и его не менее гнусных духовных и светских креатур, иезуитов и гвардейцев[33]. Суетливые ораторы в британском парламенте сотрясают воздух пустой болтовней относительно Савойи и опасностей, грозящих Швейцарии, но не произносят ни единого слова о резне, происходящей в сицилийских городах. Во всей Европе не слышно ни одного негодующего голоса. Ни один правитель и ни один парламент не объявляют вне закона кровожадного неаполитанского идиота. Лишь Луи-Наполеон в тех или иных целях — конечно, не из любви к свободе, а ради возвеличения своей династии или ради усиления французского влияния — может, пожалуй, остановить резню, устраиваемую этим мясником. Англия подымет вой по поводу измены, будет метать громы и молнии, протестуя против наполеоновского вероломства и тщеславия, но выиграют в конце концов неаполитанцы и сицилийцы, даже если они получат Мюрата или какого-нибудь другого нового правителя. Всякая перемена будет к лучшему.
К. МАРКС
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К БУДУЩЕЙ ВОЙНЕ НАПОЛЕОНА НА РЕЙНЕ
I
Берлин, 1 мая 1860 г.
Мнение, что Луи Бонапарт намеревается поставить на очередь германский вопрос, преобладает среди всех классов здешнего общества. В сегодняшнем номере «National-Zeitung» один корреспондент утверждает даже, что, как ему известно из самых достоверных источников, Баденге (как в Париже фамильярно называют Луи Бонапарта)[34] определенно решил предпринять кампанию на Рейне и что несколько недель тому назад лорд Джон Рассел, узнав об этом плане, поднялся со своего места, чтобы встревожить палату общин свирепой бранью по адресу французского императора и неожиданным заявлением, что Англия намерена теперь искать новых союзников. Тон и настроение французской полуофициальной печати отнюдь не рассеивают эти опасения. Прочтите, например, следующую выдержку из корреспонденции агентства Бюлье[35] — парижского издания, из которого черпает свое вдохновение большинство провинциальных французских журналистов.
«Один из моих друзей, любитель шутливых пророчеств, сказал мне на днях: «Вы еще увидите, что император отправится на Рейн с целью предложить прусскому королю союз, а заодно и небольшое исправление границ». На это я ответил цитатой из памфлета «Наполеон III и Италия»: «Вопрос о территориальных изменениях лучше решать дружественным путем, чем быть вынужденным к этому на следующий день после победы»».
Вскоре после заключения торгового договора с Англией французское правительство сделало намек прусскому посланнику в Париже, что предложение заключить подобный договор между Францией и Таможенным союзом[36] встретило бы благоприятный прием; однако прусское правительство ответило, что Таможенный союз отнюдь не имеет желания заключать такой договор, и это возбудило удивление и недовольство, выраженные в весьма невежливой форме. К тому же прусское правительство получило в то время полную информацию о переговорах, которые агенты Луи Бонапарта незадолго до этого начали с баварским двором с целью побудить последний уступить Франции крепость Ландау, оставленную, как они говорили, за Францией в силу договора 1814 г., но затем несправедливо отобранную у нее по договору 1815 года[37]. Таким образом, распространенные среди населения слухи об угрожающем разрыве с Францией подкрепляются подозрениями официальных кругов.
В настоящий момент положение Пруссии в некоторых отношениях весьма сходно с положением Австрии после окончания Восточной войны. Тогда казалось, что Австрия извлекла наибольшие выгоды по сравнению с другими державами. Она льстила себя мыслью, что, не причиняя себе никаких хлопот, кроме мобилизации своих войск, она унизила своего опасного соседа — Россию. Сыграв роль вооруженного посредника, в то время как западным державам пришлось нести всю тяжесть войны, Австрия после заключения мира могла вообразить, что с помощью вооруженных сил западных союзников она уничтожила преобладание, которое Россия получила над ней со времени венгерских событий 1849 года[38]. И в самом деле, венскому кабинету было высказано в то время немало комплиментов по поводу его искусной дипломатической тактики. Однако в действительности двусмысленная позиция, занятая Австрией во время Восточной войны, лишила ее союзников и дала Луи Бонапарту возможность локализовать Итальянскую войну. В свою очередь, Пруссия в течение Итальянской войны сохранила в неприкосновенности свои ресурсы. Она держала оружие наготове, но не пускала его в ход и довольствовалась тем, что вместо крови своих солдат проливала послушные чернила своих политических мудрецов. После Виллафранкского мира Пруссия с помощью французских побед, казалось, ослабила своего соперника, Габсбургскую династию, и открыла себе путь к гегемонии в Германии. Однако сама мотивировка объявления Виллафранкского мира должна была рассеять иллюзии, во власти которых она находилась. В то время как Луи Бонапарт объявил, что прусские вооружения и угрозы возможной интервенции притупили меч Франции, Австрия, в свою очередь, заявила, что ее сила сопротивления разбилась о двусмысленный нейтралитет Пруссии. В течение всей войны Пруссия делала заявления, которые нелепым образом противоречили ее поступкам.
Перед Австрией и мелкими немецкими государствами она ссылалась на свои обязанности в качестве европейской державы; перед Англией и Россией она ссылалась на свои обязательства как главной германской державы и, основывая свои претензии на этих лицемерных отговорках, она требовала, чтобы Франция признала ее вооруженным посредником в Европе. В соответствии со своими притязаниями называться германской державой par excellence [по преимуществу. Ред.] она позволила России в неслыханно оскорбительном циркуляре запугивать дворы мелких немецких государств[39], а в лице господина Шлейница робко выслушивала пространные лекции лорда Джона Рассела о «конституционном» праве наций.
Свои притязания на роль европейской державы Пруссия подтвердила тем, что успокоила воинственные порывы мелких немецких государей и попыталась использовать военные поражения Австрии для присвоения себе роли, ранее принадлежавшей ее сопернице в органах Германского союза. Когда, наконец, успехи французского оружия вынудили ее занять некоторое подобие воинственной позиции, она натолкнулась на холодное сопротивление мелких немецких государств, которые едва сочли нужным скрывать свое недоверие к конечным целям прусского двора. Виллафранкский мир застал Пруссию совершенно изолированной не только в Европе, но и в Германии, а последовавшая затем аннексия Савойи, значительно сократив незащищенную границу Франции, сильно увеличила ее шансы на победоносную кампанию на Рейне.
Ввиду этих обстоятельств политическая линия, которую Пруссия стремилась теперь проводить как в своей внутренней, так и во внешней политике, представляется одинаково ошибочной. Несмотря на всю хвастливую декламацию на страницах прусских газет и в палатах представителей, ничто не изменилось в ее внутренних делах, кроме фразеологии ее чиновников. Предложения о реформе армии, отнюдь не предусматривающие увеличения ее военной мощи на случай крайней необходимости, имеют целью непрерывное увеличение постоянной армии, и без того слишком большой, переобременение финансов, и без того уже чрезмерно напряженных, и уничтожение единственного демократического учреждения страны — ландвера[40]. Все реакционные законы о печати, о праве союзов, о городском управлении, о взаимоотношениях между помещиками и крестьянами, о бюрократической опеке, о вездесущей полиции — все это тщательно сохраняется. Даже позорные положения о браках между дворянами и простыми смертными до сих пор не отменены. Самая идея восстановления конституции, опрокинутой coup d’etat [государственным переворотом. Ред.], подвергается осмеянию как сумасбродная фантазия.
Приведу лишь один пример гражданской свободы, которой пользуются теперь прусские подданные. В худший период реакции один уроженец Рейнской Пруссии [Нотьюнг. Ред.] был осужден пристрастно подобранным судом присяжных к семи годам заключения в прусской крепости за так называемое политическое преступление. Отбыв срок своего наказания, которое либеральное правительство не сократило, он отправился в Кёльн, откуда полиция не замедлила его выгнать. Тогда он направился в свой родной город, но, как это ни странно, был уведомлен властями, что по причине семилетнего отсутствия он утратил свое право гражданства и должен искать новое местожительство. Возражение, что его отсутствие было не добровольным, не привело ни к