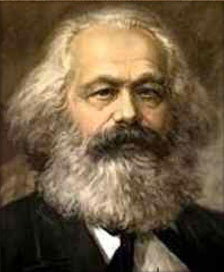различия по весу, т. е. что Эпикур по-своему уже знал атомный вес и атомный объем.
1848 год, который в Германии в общем ничего не довел до конца, произвел там полный переворот только в области философии. Устремившись в область практики и положив начало, с одной стороны, крупной промышленности и спекуляции, а с другой стороны, тому мощному подъему, который естествознание с тех пор переживает в Германии и первыми странствующими проповедниками которого явились карикатурные персонажи Фогт, Бюхнер и т. д., — нация решительно отвернулась от затерявшейся в песках берлинского старргегельянства классической немецкой философии. Берлинское старогегельянство вполне это заслужило. Но нация, желающая стоять на высоте пауки, не может обойтись без теоретического мышления. Вместе с гегельянством выбросили за борт и диалектику — как раз в тот самый момент, когда диалектический характер процессов природы стал непреодолимо навязываться мысли и когда, следовательно, только диалектика могла помочь естествознанию выбраться из теоретических трудностей. В результате этого снова оказались беспомощными жертвами старой метафизики. Среди публики получили с тех пор широкое распространение, с одной стороны, приноровленные к духовному уровню филистера плоские размышления Шопенгауэра, впоследствии даже Гартмана, а с другой — вульгарный, в стиле странствующих проповедников, материализм разных Фогтов и Бюхнеров. В университетах конкурировали между собой различнейшие сорта эклектизма, у которых общим было только то, что они были состряпаны из одних лишь отбросов старых философских систем и были все одинаково метафизичны. Из остатков классической философии сохранилось только известного рода неокантианство, последним словом которого была вечно непознаваемая вещь в себе, т. е. та часть кантовского учения, которая меньше всего заслуживала сохранения. Конечным результатом были господствующие теперь разброд и путаница в области теоретического мышления.
Нельзя теперь взять в руки почти ни одной теоретической книги по естествознанию, не получив из чтения ее такого впечатления, что сами естествоиспытатели чувствуют, как сильно над ними господствует этот разброд и эта путаница, и что имеющая ныне хождение, с позволения сказать, философия не дает абсолютно никакого выхода. И здесь действительно нет никакого другого выхода, никакой другой возможности добиться ясности, кроме возврата в той или иной форме от метафизического мышления к диалектическому.
Этот возврат может совершиться различным образом. Он может проложить себе путь стихийно, просто благодаря напору самих естественнонаучных открытий, не умещающихся больше в старом метафизическом прокрустовом ложе. Но это — длительный и трудный процесс, при котором приходится преодолевать бесконечное множество излишних трений. Процесс этот в значительной степени уже происходит, в особенности в биологии. Он может быть сильно сокращен, если представители теоретического естествознания захотят поближе познакомиться с диалектической философией в ее исторически данных формах. Среди этих форм особенно плодотворными для современного естествознания могут стать две.
Первая — это греческая философия. Здесь диалектическое мышление выступает еще в первобытной простоте, не нарушаемой теми милыми препятствиями[274], которые сама себе создала метафизика XVII и XVIII веков — Бэкон и Локк в Англии, Вольф в Германии — и которыми она заградила себе путь от понимания отдельного к пониманию целого, к постижению всеобщей связи вещей. У греков — именно потому, что они еще не дошли до расчленения, до анализа природы, — природа еще рассматривается в общем, как одно целое. Всеобщая связь явлений природы не доказывается в подробностях: она является для греков результатом непосредственного созерцания. В этом недостаток греческой философии, из-за которого она должна была впоследствии уступить место другим воззрениям. Но в этом же заключается и ее превосходство над всеми ее позднейшими метафизическими противниками. Если метафизика права по отношению к грекам в подробностях, то в целом греки правы по отношению к метафизике. Это одна из причин, заставляющих нас все снова и снова возвращаться в философии, как и во многих других областях, к достижениям того маленького народа, универсальная одаренность и деятельность которого обеспечили ему в истории развития человечества место, на какое не может претендовать ни один другой народ. Другой же причиной является то, что в многообразных формах греческой философии уже имеются в зародыше, в процессе возникновения, почти все позднейшие типы мировоззрений. Поэтому и теоретическое естествознание, если оно хочет проследить историю возникновения и развития своих теперешних общих положений, вынуждено возвращаться к грекам. И понимание этого все более и более прокладывает себе дорогу. Все более редкими становятся те естествоиспытатели, которые, сами оперируя обрывками греческой философии, например атомистики, как вечными истинами, смотрят на греков по-бэконовски свысока на том основании, что у последних не было эмпирического естествознания. Было бы только желательно, чтобы это понимание углубилось и привело к действительному ознакомлению с греческой философией.
Второй формой диалектики, особенно близкой как раз немецким естествоиспытателям, является классическая немецкая философия от Канта до Гегеля. Здесь уже кое-какое начало положено, ибо также и помимо упомянутого уже неокантианства становится снова модой возвращаться к Канту. С тех пор как открыли, что Кант является творцом двух гениальных гипотез, без которых нынешнее теоретическое естествознание не может ступить и шага, — а именно приписывавшейся прежде Лапласу теории возникновения солнечной системы и теории замедления вращения Земли благодаря приливам, — с тех пор Кант снова оказался в должном почете у естествоиспытателей. Но учиться диалектике у Канта было бы без нужды утомительной и неблагодарной работой, с тех пор как в произведениях Гегеля мы имеем обширный компендий диалектики, хотя и развитый из совершенно ложного исходного пункта.
После того как, с одной стороны, реакция против «натурфилософии», — в значительной степени оправдывавшаяся этим ложным исходным пунктом и жалким обмелением берлинского гегельянства, — исчерпала себя, выродившись под конец в простую ругань, после того как, с другой стороны, естествознание в своих теоретических запросах было столь безнадежно оставлено в беспомощном положении ходячей эклектической метафизикой, — может быть, станет возможным опять заговорить перед естествоиспытателями о Гегеле, не вызывая этим у них той виттовой пляски, в которой так забавен г-н Дюринг.
Прежде всего следует установить, что дело идет здесь отнюдь не о защите гегелевской исходной точки зрения, согласно которой дух, мысль, идея есть первичное, а действительный мир — только слепок с идеи. От этого отказался уже Фейербах. Мы все согласны с тем, что в любой научной области — как в области природы, так и в области истории — надо исходить из данных нам фактов, стало быть, в естествознании — из различных предметных форм и различных форм движения материи [Далее в рукописи перечеркнуто: «Мы, социалистические материалисты, идем в этом отношении даже еще значительно дальше, чем естествоиспытатели, так как мы также и…». Ред.], и что, следовательно, также и в теоретическом естествознании нельзя конструировать связи и вносить их в факты, а надо извлекать их из фактов и, найдя, доказывать их, насколько это возможно, опытным путем.
Точно так же речь не может идти и о том, чтобы сохранить догматическое содержание гегелевской системы, как оно проповедовалось берлинскими гегельянцами старшей и младшей линии. Вместе с идеалистическим исходным пунктом падает и построенная на нем система, следовательно в частности и гегелевская натурфилософия. Но здесь следует напомнить о том, что естественнонаучная полемика против Гегеля, поскольку она вообще правильно понимала его, направлялась только против обоих этих пунктов: против идеалистического исходного пункта и против произвольного, противоречащего фактам, построения системы.
За вычетом всего этого остается еще гегелевская диалектика. Заслугой Маркса является то, что он впервые извлек снова на свет, в противовес «крикливым, претенциозным и весьма посредственным эпигонам, задающим тон в современной Германии»[275], забытый диалектический метод, указал на его связь с гегелевской диалектикой, а также и на его отличие от последней и в то же время дал в «Капитале» применение этого метода к фактам определенной эмпирической науки, политической экономии. И сделал он это с таким успехом, что даже в Германии новейшая экономическая школа поднимается над вульгарным фритредерством лишь благодаря тому, что она, под предлогом критики Маркса, занимается списыванием у него (довольно часто неверным).
У Гегеля в диалектике господствует то же самое извращение всех действительных связей, как и во всех прочих разветвлениях его системы. Но, как замечает Маркс, «мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение ее всеобщих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно»[276].
Но и в самом естествознании мы достаточно часто встречаемся с такими теориями, в которых действительные отношения поставлены на голову, в которых отражение принимается за отражаемый объект и которые нуждаются поэтому в подобном перевертывании. Такие теории нередко господствуют в течение продолжительного времени. Именно такой случай представляет учение о теплоте: в течение почти двух столетий теплота рассматривалась не как форма движения обыкновенной материи, а как особая таинственная материя; только механическая теория теплоты осуществила здесь необходимое перевертывание. Тем не менее физика, в которой царила теория теплорода, открыла ряд в высшей степени важных законов теплоты. В особенности Фурье и Сади Карно[277] расчистили здесь путь для правильной теории, которой оставалось только перевернуть открытые ее предшественницей законы и перевести их на свой собственный язык [Фигурирующая у Карно функция С была в буквальном смысле перевернута: 1/с= абсолютной температуре. Если ее не перевернуть таким образом, с ней нечего делать.]. Точно так же в химии флогистонная теория своей вековой экспериментальной работой впервые доставила тот материал, с помощью которого Лавуазье смог открыть в полученном Пристли кислороде реальный антипод фантастического флогистона и тем самым ниспровергнуть всю флогистонную теорию. Но это отнюдь не означало устранения опытных результатов флогистики. Наоборот, они продолжали существовать; только их формулировка была перевернута, переведена с языка флогистонной теории на современный химический язык, и постольку они сохранили свое значение.
Гегелевская диалектика так относится к рациональной диалектике, как теория теплорода — к механической теории теплоты, как флогистонная теория — к теории Лавуазье.
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В МИРЕ ДУХОВ[278]
Существует старое положение диалектики, перешедшей в народное сознание: крайности сходятся. Мы поэтому вряд ли ошибемся, если станем искать самые крайние степени фантазерства, легковерия и суеверия не у того естественнонаучного направления, которое, подобно немецкой натурфилософии, пыталось втиснуть объективный мир в рамки своего субъективного мышления, а, наоборот, у того противоположного направления,