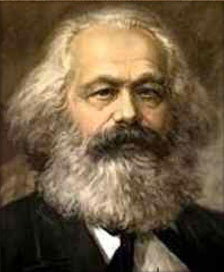ни одна тактическая программа не оправдалась в такой мере, как эта. Выдвинутая накануне революции, она выдержала испытание этой революции; и с тех пор каждый раз, когда какая-нибудь рабочая партия отступала от нее, она расплачивалась за каждое отступление. И ныне, почти сорок лет спустя, она служит руководящей нитью для всех решительных и сознательных рабочих партий Европы — от Мадрида до Петербурга.
Февральские события в Париже ускорили надвигавшуюся немецкую революцию и тем самым изменили ее характер. Вместо того чтобы победить собственными силами, немецкая буржуазия победила, идя на буксире французской рабочей революции. Не успев еще окончательно справиться со своими старыми противниками — абсолютной монархией, феодальным землевладением, бюрократией, трусливым мещанством, — она уже должна была повернуть фронт против нового врага — пролетариата. Но при этом тотчас же сказалось влияние очень отсталых по сравнению с Францией и Англией экономических условий и таких же отсталых вследствие этого классовых взаимоотношений в Германии.
Немецкая буржуазия, только что начавшая создавать свою крупную промышленность, не имела ни силы, ни мужества для завоевания себе безусловного господства в государстве, ни насущной потребности в этом завоевании; пролетариат, в такой же мере неразвитый, выросший в полном духовном порабощении, неорганизованный и даже еще не способный к самостоятельной организации, только смутно чувствовал глубокую противоположность своих интересов интересам буржуазии. Поэтому, хотя по существу он был грозным противником буржуазии, он тем не менее оставался ее политическим придатком. Напуганная не тем, чем немецкий пролетариат был, а тем, чем он грозил стать и чем французский пролетариат уже был, буржуазия видела только одно спасение — в любом, даже самом трусливом компромиссе с монархией и дворянством; пролетариат же, не сознавая еще своей собственной исторической роли, вынужден был на первых порах в подавляющей своей массе выполнять роль наиболее передового, крайнего левого крыла буржуазии. Немецкие рабочие должны были прежде всего завоевать себе те права, которые были им необходимы для самостоятельной организации в классовую партию: свободу печати, союзов и собраний, — права, которые сама буржуазия обязана была завоевать в интересах своего собственного господства, но которые она из страха перед рабочими стала теперь у них оспаривать. Две-три сотни разрозненных членов Союза затерялись в огромной массе, внезапно пришедшей в движение. Немецкий пролетариат появился поэтому на политической сцене сначала как самая крайняя демократическая партия.
Это определяло наше знамя, когда мы приступили к основанию в Германии большой газеты. Таким знаменем могло быть только знамя демократии, но демократии, выдвигавшей повсюду, по каждому отдельному случаю, свой специфический пролетарский характер, о чем она еще не могла раз навсегда написать и а своем знамени. Если бы мы не пошли на это, если бы мы не захотели примкнуть к движению на его уже существовавшем, самом передовом, фактически пролетарском фланге и толкать его дальше вперед, то нам не оставалось бы ничего другого, как проповедовать коммунизм в каком-нибудь мелком захолустном листке и вместо большой партии действия основать маленькую секту. Но для роли проповедников в пустыне мы уже не годились: для этого мы слишком хорошо изучили утопистов и не для этого составили мы свою программу.
Когда мы приехали в Кёльн, там демократами, а отчасти и коммунистами, уже велась подготовка к созданию большой газеты. Ее хотели сделать узкоместной, кёльнской, а нас сослать в Берлин. Но мы в 24 часа, главным образом благодаря Марксу, завоевали позиции; газета стала нашей; зато мы сделали уступку, включив в состав редакции Генриха Бюргерса. Последний написал (в № 2) одну статью, за которой никакой другой так и не последовало.
Нам нужен был именно Кёльн, а не Берлин. Во-первых, Кёльн был центром Рейнской провинции, которая пережила французскую революцию, усвоила через кодекс Наполеона[15] современное правосознание, развила у себя наиболее крупную промышленность и вообще во всех отношениях была тогда самой передовой частью Германии. Мы по собственным наблюдениям слишком хорошо знали тогдашний Берлин с его едва зарождавшейся буржуазией, с его наглым на словах, но на деле трусливым и раболепным мещанством, с его еще совершенно неразвитыми рабочими, с его бесчисленными бюрократами, придворной и дворянской челядью, со всеми его особенностями города, представлявшего собой только «резиденцию». Но решающее значение имел тот факт, что в Берлине господствовало жалкое прусское право и политические процессы разбирались профессиональными судьями; на Рейне же действовал кодекс Наполеона, не знавший процессов по делам печати, так как исходил из существования цензуры, и к суду присяжных привлекали не за политическое правонарушение, а только за преступление. В Берлине после революции молодой Шлёффель за пустяки был осужден на год[16] на Рейне же мы располагали безусловной свободой печати и использовали ее до последней возможности.
Мы приступили к изданию газеты 1 июня 1848 г. с очень небольшим акционерным капиталом, из которого была внесена только незначительная часть; да и сами акционеры были более чем ненадежны. После первого же номера половина из них нас покинула, а к концу месяца не осталось ни одного.
Конституция редакции сводилась просто к диктатуре Маркса. Большая ежедневная газета, которая должна выходить в определенный час, ни при какой другой организации не может последовательно проводить свою линию. К тому же здесь для нас диктатура Маркса была чем-то само собой разумеющимся, бесспорным, и мы все ее охотно принимали. Именно его проницательности и твердой линии газета была в первую очередь обязана тем, что стала самой известной немецкой газетой революционных лет.
Политическая программа «Neue Rheinische Zeitung» состояла из двух главных пунктов: единая, неделимая, демократическая немецкая республика и война с Россией, включавшая восстановление Польши.
Мелкобуржуазная демократия делилась тогда на две фракции: северогерманскую, желавшую демократического прусского императора, и южногерманскую, тогда почти специфически баденскую, желавшую превратить Германию в федеративную республику по образцу Швейцарии. Нам надо было бороться с обеими фракциями. Интересам пролетариата одинаково противоречило как опруссачение Германии, так и увековечение ее раздробленности на множество мелких государств. Интересы пролетариата повелительно требовали окончательного объединения Германии в единую нацию, что одно только и могло очистить от всяких унаследованных от прошлого мелких препятствий то поле битвы, на котором пролетариату и буржуазии предстояло помериться силами. Но интересам пролетариата в то же время решительно противоречило установление прусского верховенства: прусское государство со всеми своими порядками, своими традициями и своей династией было как раз единственным серьезным внутренним противником, которого должна была сокрушить революция в Германии; кроме того, Пруссия могла объединить Германию, только разорвав ее, только исключив из нее немецкую Австрию. Уничтожение прусского государства, распад австрийского, действительное объединение Германии как республики, — только такой могла быть наша революционная программа на ближайшее время. И осуществить ее можно было посредством войны с Россией, только таким путем. К этому последнему пункту я еще вернусь.
Вообще же тон газеты отнюдь не был торжественным, серьезным или восторженным. У нас были одни только презренные противники, и мы относились ко всем им, без исключения, с крайним презрением. Конспирирующая монархия, камарилья, дворянство, «Kreuz-Zeitung»[17] — словом, вся объединенная «реакция», вызывавшая такое нравственное негодование у филистера, — с нашей стороны встречала только насмешки и издевательства. Но не лучше относились мы и к созданным революцией новым кумирам: мартовским министрам. Франкфуртскому и Берлинскому собраниям и к их правым, и к их левым. Первый же номер газеты начинался статьей, издевавшейся над ничтожеством Франкфуртского парламента, над бесполезностью его длиннейших речей, над никчемностью его трусливых резолюций[18]. Она стоила нам половины наших акционеров. Франкфуртский парламент не был даже дискуссионным клубом; в нем почти не дискутировали, а в большинстве случаев произносили заранее заготовленные академические трактаты и принимали резолюции, которые должны были воодушевлять немецкого филистера, но которыми, однако, никто вообще не интересовался.
Берлинское собрание имело уже больше значения: оно противостояло реальной силе, оно дискутировало и принимало решения не на пустом месте, не в заоблачных высотах Франкфуртского собрания. Ему поэтому и уделялось больше внимания. Но и к тамошним кумирам левой — Шульце-Деличу, Берендсу, Эльснеру, Штейну и т. д. — мы относились не менее резко, чем к франкфуртцам; мы беспощадно разоблачали их нерешительность, робость и мелочную расчетливость, показывая им, как они своими компромиссами шаг за шагом все больше изменяли революции. Это, разумеется, вызывало ужас у демократических мелких буржуа, только что сфабриковавших себе этих кумиров для собственного употребления. Но этот ужас означал, что мы попадали прямо в цель.
Точно так же выступали мы и против усердно распространявшейся мелкой буржуазией иллюзии, будто революция закончилась мартовскими днями и теперь остается только пожинать ее плоды. Для нас февраль и март могли иметь значение подлинной революции только в том случае, если бы они были не завершением, а, наоборот, исходной точкой длительного революционного движения, в котором, как во время великого французского переворота, народ развивался бы в ходе своей собственной борьбы, партии обособлялись бы все резче и резче, пока полностью не совпали бы с крупными классами: буржуазией, мелкой буржуазией, пролетариатом, — а пролетариат в ряде битв завоевывал бы одну позицию за другой. Поэтому мы выступали также против демократической мелкой буржуазии повсюду, где она желала затушевать свою классовую противоположность пролетариату излюбленной фразой: ведь все мы хотим одного и того же, все разногласия — просто результат недоразумений. Но чем меньше мы позволяли мелкой буржуазии создавать себе ложное представление о нашей пролетарской демократии, тем смирнее и сговорчивее становилась она по отношению к нам. Чем резче и решительнее выступают против нее, тем более податливой она становится, тем больше уступок делает она рабочей партии. В этом мы убедились.
Наконец, мы вскрывали парламентский кретинизм (по выражению Маркса) различных так называемых национальных собраний[19]. Эти господа выпустили из рук все средства власти, передав их — отчасти добровольно — обратно правительствам. Наряду с вновь окрепшими реакционными правительствами в Берлине и во Франкфурте существовали немощные собрания, воображавшие, однако, что их бессильные резолюции перевернут мир. Жертвами этого идиотского самообмана были все, вплоть до крайней левой. А мы повторяли им: ваша парламентская победа будет в то же время и вашим фактическим поражением.
Так оно и случилось и в Берлине и во Франкфурте. Когда «левая» получила большинство, правительство разогнало все собрание; оно могло себе это позволить, так как собрание потеряло доверие народа.
Когда я прочитал впоследствии книгу Бужара о Марате, я увидел, что мы во многих отношениях лишь бессознательно подражали великому образцу подлинного (не фальсифицированного роялистами) «Ami