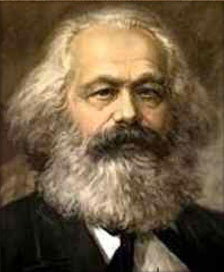упраздняет в них святость, т. е. своё святое представление о них, — упраздняет их, поскольку они существуют только в нём как в святом{188}.
Стр. 50{189}: «Таким, каким Ты существуешь в каждое мгновение, Ты и являешься Своим творением, и вот в этом-то творении Ты не должен утратить Себя, творца. Ты — сам по сравнению с Собой являешься более высоким существом, т. е. Ты являешься не просто творением, но равным образом и Творцом; и это-то Ты и упускаешь из виду в качестве недобровольного эгоиста и поэтому это более высокое существо чуждо Тебе».
В несколько иной вариации та же премудрость изложена на стр. 239 «Книги»:
«Род — Ничто» (в дальнейшем он превращается в разнообразнейшие вещи, смотри «Самонаслаждение»), «и когда отдельный человек поднимается над ограниченностью своей индивидуальности, то именно здесь выступает Он сам как отдельная личность; он существует лишь постольку, поскольку он поднимается всё выше, поскольку он не остаётся тем, что он есть, иначе он был бы застывшим, мёртвым».
По отношению к этим положениям, к этому своему «творению», Штирнер тотчас же начинает вести себя как «творец», «отнюдь не утрачивая себя в них»:
«Лишь в мгновении Ты обладаешь бытием, лишь как мгновенный Ты действительно существуешь. В каждый данный момент Я есть целиком то, что Я есть… То, что оторвано от Тебя как мгновенного», есть нечто «абсолютно высшее»… (Виганд, стр. 170); а на стр. 171 (там же) «Твоё существо» определяется как «Твоё мгновенное существо».
Тогда как в «Книге» святой Макс говорит, что помимо мгновенного существа, он является ещё другим, более высоким существом, в «Апологетическом комментарии» «мгновенное существо» его индивида отождествляется с его «совершенно целостным существом», и каждое существо как «мгновенное» превращается в «абсолютно высшее существо». Стало быть, в «Книге» он в каждое мгновение есть более высокое существо по сравнению с тем, что он есть в это мгновение, а в «Комментарии» всё то, чем он в данное мгновение не является непосредственно, есть «абсолютно высшее существо», святое существо. — И после всего этого раздвоения мы читаем на стр. 200 «Книги»:
«Я ничего не знаю о раздвоении на «несовершенное»» и ««совершенное» Я».
«Согласный с собой эгоист» теперь уже не должен приносить себя в жертву ничему высшему, ибо он сам для себя и есть это высшее, и это раздвоение между «высшим» и «низшим» он переносит в самого себя. Так в самом деле (святой Санчо contra{190} Фейербах, «Книга», стр. 243) «высшее существо претерпело не более чем метаморфозу». Истинный эгоизм святого Макса заключается в эгоистическом отношении к действительному эгоизму, к самому себе, каков он есть «в каждое данное мгновение». Это эгоистическое отношение к эгоизму есть самоотверженность. Святой Макс как творение является с этой стороны эгоистом в обыкновенном смысле, а как творец — он самоотверженный эгоист. Мы познакомимся и с противоположной стороной, ибо обе эти стороны узаконяются как настоящие рефлективные определения, поскольку они проделывают абсолютную диалектику, в которой каждая из них есть в себе своя собственная противоположность.
Прежде чем вникнуть глубже в эту мистерию в её эзотерическом виде, необходимо рассмотреть её в её отдельных тяжких жизненных битвах.
[Наиболее общего качества — эгоиста, приведённого как творца в согласие с самим собой, с точки зрения мира духа — Штирнер достигает на стр. 82, 83.
«Христианство ставило себе целью освободить Нас от природного определения (определения через природу), от влечений как движущей силы; оно стремилось, таким образом, к тому, чтобы человек не подчинялся своим влечениям. Это не значит, что он не должен иметь влечений, а лишь то, что влечения не должны властвовать над ним, что они не должны стать закостеневшими, непреодолимыми, неразрушимыми. Эти происки христианства против влечений не могли ли бы мы применить и к его собственному предписанию, чтобы мы определялись духом…?… Тогда это свелось бы к разложению духа, к разложению всех мыслей. Как там следовало сказать… так теперь мы сказали бы: Мы должны, правда, владеть духом, но дух не должен владеть Нами».]
«Но те, которые присоединились к Христу, распяли плоть вместе со страстями и похотями» (Послание к галатам, 5, 24), — выходит, что, по Штирнеру, они поступают со своими распятыми страстями и похотями как истинные собственники. Он берёт подряд на распространение христианства, но не хочет удовлетвориться одной лишь распятой плотью, а желает распять и дух, т. е. «целостного субъекта».
Христианство только потому хотело освободить нас от господства плоти и «влечений как движущей силы», что смотрело на нашу плоть, на наши влечения, как на нечто чуждое нам; оно только потому хотело устранить нашу обусловленность природой, что нашу собственную природу оно считало не принадлежащей нам. В самом деле, раз я сам не являюсь природой, раз мои природные влечения, вся моя природная организация не принадлежат мне самому, — а таково учение христианства, — то всякая обусловленность природой — будет ли эта обусловленность вызвана моей собственной природной организацией или так называемой внешней природой — покажется мне обусловленностью, чем-то чуждым, покажется оковами, насилием надо мной, гетерономией, в противоположность автономии духа. Эту христианскую диалектику Штирнер принимает не задумываясь и затем применяет её к нашему духу. Впрочем, христианство так и не достигло того, чтобы освободить нас от власти влечений, хотя бы в том мещански-ограниченном смысле, который святой Макс подсунул христианству, — оно не идёт дальше пустой, практически безрезультатной моральной заповеди. Штирнер принимает моральную заповедь за реальное действие и восполняет её дальнейшим категорическим императивом: «Мы должны, правда, владеть духом, но дух не должен владеть Нами», — и поэтому весь его согласный с собой эгоизм сводится «при ближайшем рассмотрении», как сказал бы Гегель, к столь же забавной, сколь назидательной и созерцательной моральной философии.
Становится ли влечение закостеневшим или нет, т. е. приобретает ли оно над нами исключительную власть, — что, впрочем, не исключает дальнейшего развития, — это зависит от того, дозволяют ли материальные обстоятельства, «дурные» житейские условия нормально удовлетворять это влечение и, с другой стороны, развивать целую совокупность влечений. А это последнее зависит, в свою очередь, от того, живём ли мы в таких обстоятельствах, которые допускают всестороннюю деятельность и тем самым полное развитие всех наших задатков. От уклада действительных отношений и от обусловленной этими отношениями возможности развития у каждого индивида зависит и то, становятся ли мысли закостеневшими или нет, — так, например, навязчивые идеи немецких философов, этих «жертв общества», qui nous font pitie{191}, неразрывно связаны с немецкими условиями. Впрочем, у Штирнера власть влечений есть пустая фраза, возводящая его в достоинство абсолютного святого. Так, возвращаясь к «трогательному примеру» корыстолюбца, мы читаем:
«Корыстолюбец — не собственник, а раб, и он ничего не может сделать для себя, не делая этого вместе с тем для своего господина» (стр. 400).
Никто не может сделать что-нибудь, не делая этого вместе с тем ради какой-либо из своих потребностей и ради органа этой потребности, — это для Штирнера означает, что данная потребность и её орган приобретают господство над ним, подобно тому как он уже раньше провозгласил средство для удовлетворения потребности (ср. главы о политическом либерализме и коммунизме) господином над собой. Штирнер не может принимать пищу, не принимая её вместе с тем ради своего желудка. Если житейские отношения мешают ему удовлетворить свой желудок, то этот его желудок становится господином над ним, стремление к еде становится навязчивым стремлением, а мысль о еде — навязчивой идеей, — что заодно даёт ему пример влияния житейских условий на процесс закостенения его желаний и идей. «Бунт» Санчо против закостенения желаний и мыслей сводится, таким образом, к бессильной моральной заповеди самообладания и ещё раз доказывает, что он лишь придаёт идеологически-высокопарное выражение тривиальнейшему умонастроению мелких буржуа{192}.
Итак, в этом первом примере он борется, с одной стороны, со своими плотскими желаниями, а с другой — со своими духовными мыслями; с одной стороны — со своей плотью, с другой — со своим духом, когда они, его творения, хотят приобрести самостоятельность по отношению к нему, своему творцу. Как наш святой ведёт эту борьбу, каково его отношение как творца к своим творениям, — это мы сейчас увидим.
У христианина «в обыкновенном смысле», у chretien «simple»{193}, говоря словами Фурье, «дух властвует безраздельно, и никакие уговоры «плоти» не принимаются им во внимание. Однако сломить тиранию духа Я могу не иначе, как «плотью», ибо только человек, уразумевший также и голос своей плоти, уразумел себя всецело, и только уразумев себя всецело, он становится разумеющим или разумным… Но как только плоть заговорит, и притом, — что и не может быть иначе, — страстным тоном… тогда ему» (нашему chretien simple) «чудятся бесовские голоса, голоса против духа… и ему приходится ополчиться против них. Он не был бы христианином, если бы стал их терпеть» (стр. 83).
Итак, когда его дух хочет приобрести самостоятельность по отношению к нему, святой Макс призывает на помощь свою плоть, а когда взбунтуется его плоть, он вспоминает, что он ведь также и дух. То, что христианин делает в одном направлении, — святой Макс делает сразу в обоих. Он — «сложный» христианин (chretien «compose»), он ещё раз показывает себя совершенным христианином.
Здесь, в этом примере, святой Макс в качестве духа не выступает как творец своей плоти, и наоборот; он находит в готовом виде свою плоть и свой дух, и лишь тогда, когда взбунтуется одна из сторон, он вспоминает, что у него есть и другая, и выдвигает эту другую сторону, как своё истинное Я, против первой. Святой Макс является здесь, стало быть, творцом лишь постольку, поскольку он «имеет еще и другое определением, поскольку он обладает ещё и другим качеством помимо того, которое ему угодно подвести в данный момент под категорию «творения». Вся его творческая деятельность заключается здесь в благом намерении уразуметь себя, и притом уразуметь себя всецело или быть разумным{194}, уразуметь себя как «совершенно целостное существо», как существо, отличное от «его мгновенного существа» и даже прямо противоположное тому, каково его существо